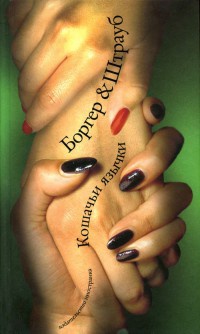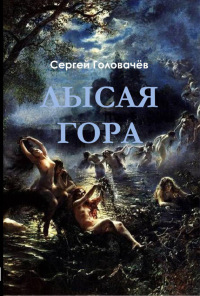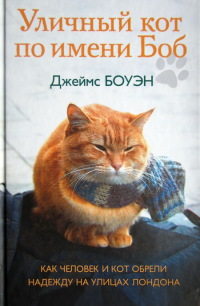Книга Есть, молиться, любить - Элизабет Гилберт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Бедняга Джованни! На спотыкающемся английском онрасспрашивает, что стряслось. Неужто я на него разозлилась? Он меня чем-тообидел? Я не могу ответить, лишь качаю головой и продолжаю реветь. Мне такстыдно за себя и жалко бедного Джованни, вынужденного сидеть в машине, как вловушке, наедине с ревущей лопочущей теткой, которая буквально разваливается накусочки — a pezzi, как говорят итальянцы.
Наконец мне удается связно объяснить, что расстроена я вовсене из-за Джованни. Как могу, приношу извинения. А Джованни поступаетпо-взрослому и берет ситуацию в свои руки.
Он говорит: «Не надо извиняться за слезы. Без эмоций мы былибы всего лишь роботами». Он протягивает мне салфетки из коробочки на заднемсиденье. «Давай покатаемся», — предлагает он.
Джованни прав: интернет-кафе — слишком людное и яркоосвещенное место для истерик. Мы отъезжаем чуть дальше и останавливаемся вцентре пьяцца делла Репубблика — одной из самых аристократичных площадей Рима.Джованни паркуется у великолепного фонтана с обнаженными нимфами в весьмаоткровенных позах, резвящимися со стаей огромных лебедей, чьи вытянутые шеиопределенно похожи на фаллические символы, а вся эта картинка — на откровеннуюпорнографию. По римским понятиям фонтан относительно новый. Как говорится вмоем путеводителе, для него позировали две сестры, в свое время известныетанцовщицы кабаре. Когда фонтан был построен, им выпала скандальная слава —церковь несколько месяцев пыталась запретить его открытие, посчитав слишкомэротичным. Сестры прожили долгую жизнь, и в двадцатых годах этих почтенныхпожилых дам по-прежнему можно было увидеть на площади: они ежедневно приходилиполюбоваться на «свой» фонтан. А французский скульптор, запечатлевший их юнуюкрасоту в мраморе, каждый год до самой смерти приезжал в Рим и угощал сестеробедом. Они вместе вспоминали старые добрые времена, когда все трое былимолоды, красивы и безрассудны.
Припарковавшись, Джованни ждет, пока я не приду в себя. Якрепко прижимаю ладони к глазам, пытаясь затолкнуть слезы обратно. Мы сДжованни никогда еще не говорили на личные темы. Знакомы несколько месяцев, ужераз сто вместе поужинали — а говорили все о философии, искусстве, культуре,политике и еде. А вот что происходит у каждого в личной жизни, совсем недогадываемся. Джованни даже не знает, что я в разводе, а в Америке у меняостался любимый. А мне о нем известно только то, что родился он в Неаполе ихочет стать писателем. Но после того как я расплакалась, у нас неизбежно долженсостояться разговор совсем другого толка. Я этому совсем не рада. Во всякомслучае, не при таких позорных обстоятельствах. Джованни говорит:
— Извини, я ничего не понимаю! Ты сегодня что-топотеряла? Мне все еще трудно говорить. Джованни улыбается и подбадривает меня:
— Parla come magni. — Он знает, это одно из моихлюбимых выражений на римском диалекте. Дословно оно означает «говори, как ешь»,а в моем собственном переводе — «будь проще». Это такое напоминание — когдаслишком усердно пытаешься что-то объяснить, не можешь подобрать нужные слова,лучше всегда говорить простым и незатейливым языком — таким же простым, какримская еда. Ни к чему драматизировать. Просто расскажи все как есть.
Я делаю глубокий вдох и излагаю сильно сокращенную (новместе с тем абсолютно точную) версию своей истории на итальянском:
— Любовные дела, Джованни. Сегодня мне пришлосьрасстаться с одним человеком.
Тут мне снова приходится закрыть глаза руками — слезы так ибрызжут сквозь стиснутые пальцы. Слава Богу, Джованни не пытается меня обнять,и, кажется, его ничуть не смущают проявления моих чувств. Он лишь молча сидитрядом со мной, пока я плачу, и ждет, пока я успокоюсь. А потом с искреннимучастием, осторожно выбирая слова, медленно, четко и добродушно говорит(поскольку английскому его учила я, в тот вечер я так им гордилась!):
— Я понимаю, Лиз. И я там был.
Через несколько дней в Рим приехала моя сестра, и эторазвеяло остатки моей грусти. Жизнь снова закрутилась. Сестра все делаетбыстро, производя вокруг себя энергетические мини-циклоны. Она на три года менястарше и на семь сантиметров выше. Она занимается спортом, наукой, воспитываетдетей и пишет книги. В Риме сестра готовилась к марафону — вставала на рассветеи пробегала восемнадцать миль, а я за это время успевала лишь прочитать однустатью в газете и выпить две чашки капучино. Когда она бегает, то похожа наоленя. Во время беременности первенцем она переплыла озеро — ночью, в темноте.Я не рискнула к ней присоединиться, хоть и не была беременна. Я простопобоялась. А моя сестра ничего не боится. Когда она была беременна вторымребенком, акушерка спросила ее, нет ли у нее потаенных страхов, что с малышомчто-то будет не так — генетический недостаток или осложнения при родах. Кэтринответила: «У меня только один страх: что он вырастет и станет республиканцем».
Мою сестру зовут Кэтрин. В семье нас только двое. Мы вырослив деревне, в Коннектикуте, и, кроме нас и родителей, на нашей ферме большеникого не было. Мы были единственными детьми в округе. Кэтрин любилахозяйничать и повелевать и вечно мною командовала. Я же питала к ней страх итрепет, меня интересовало только ее мнение. Когда мы играли в карты, яжульничала, чтобы проиграть, — а то не дай бог Кэтрин рассердится. Мы невсегда были друзьями. Она считала меня докучливой, а я ее боялась, кажется, летдо двадцати восьми — пока мне не надоело. В тот год я наконец нашла силы ейвозразить — а она только удивилась, как я раньше на это не решилась.
Только наши отношения вошли в новое русло, как началаськатавасия с моим бывшим мужем. Кэтрин легко могла бы посмеяться над моейнеудачей. Ведь я всегда была самой везучей и обожаемой, любимицей семьи ибаловнем судьбы. Жизнь всегда относилась ко мне более приветливо, на мою долювыпало меньше тягостей, чем на долю сестры, которая была не в ладах сокружающим миром и не раз получала сдачи. Узнав о моем разводе и депрессии,Кэтрин вполне могла бы ответить: «Ха! Ну и посмотрите теперь на нашу миссСовершенство!» Но вместо этого она поддержала меня, как настоящий друг. Когда яв расстройстве звонила ей посреди ночи, она всегда отвечала и участливоподдакивала в трубку. Когда я стала искать причины своей депрессии, она всевремя была рядом. Можно сказать, мы с ней вместе ходили к психотерапевту: втечение очень долгого времени я звонила ей после каждого сеанса и вкратце описывалавсе, что узнала во время сегодняшнего приема, а Кэтрин откладывала все своидела и говорила: «Ага… это многое объясняет». Это многое объяснило нам обеим.
Теперь мы созваниваемся почти каждый день — по крайней мере,так было до того, как я переехала в Рим. Если кому-то из нас предстоитавиаперелет, мы всегда звоним друг другу и говорим: «Не хочу наводить панику,но… хочу просто сказать, что люблю тебя. Знаешь, мало ли что…» А другаяотвечает: «Знаю. Мало ли что».
Кэтрин приехала в Рим подготовленной — впрочем, как всегда.Она взяла пять путеводителей, прочитала их все и заранее выучила карту города.Она научилась ориентироваться в Риме, еще будучи в Филадельфии. Вотклассический пример того, какие мы разные. Я первые недели бродила по городубез цели, в девяноста процентов случаев не зная дорогу, зато в восторге на всесто — все вокруг казалось непостижимой, но прекрасной тайной. И мне мир кажетсятаким всегда. Однако для моей сестры нет ничего необъяснимого, если под рукойподходящий справочный материал. Не забывайте: мы имеем дело с человеком,который хранит на кухне «Энциклопецию Колумбийского университета» — рядом сосборниками рецептов — и читает ее чисто для удовольствия.