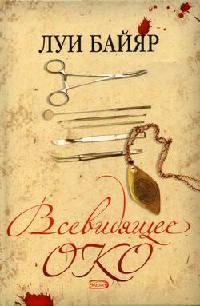Книга Черная башня - Луи Байяр
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Назовем это сухожилиями памяти.
Китайский веер — первый предмет в списке. Когда он раскрывается, обнаруживается нарумяненное лицо Свободы. Далее следует украшенная триколором табакерка. Чернильницы из осколков баррикадных кирпичей. Билеты (неиспользованные) на фарс Бомарше. Оловянная кружка с изображением Бастилии и гигантским петухом на самом верху.
Как выяснилось, закрома Папаши богаты именно такими артефактами, непопулярными в наши дни во Франции. Керамические изображения Клятвы теннисного корта. Блюдца с фигурами патриотически настроенных детей, провозглашающих свою верность Конвенту. Песенники с…
— «Caira!» — восклицает Папаша Время. — С такой песней в огонь и в воду! Всех аристократов мы повесим, ла-ла…
Даже оберточная бумага антикварная: старые выпуски «Патриотических анналов», «Сельской газеты», «Голоса народа»…
— «Всемирный курьер»! Знаете, я ведь для них писал! Очень, представьте себе, пылкие эссе под псевдонимом Юниус. А вот она, о боже, «Патриотическая молитва» Леквинио, была у всех на устах целых… целых… и вот еще что… — Он извлекает из бочонка продолговатый предмет из синей шерсти. — Рад сообщить: старая рукавица Руссо. Он ее потерял во время прогулки. Великие люди, они всегда гуляют и думают. К концу дня руки у него, должно быть, здорово потрескались.
— Месье, прошу вас. — Я заискивающе улыбаюсь. — Вы ведь собирались рассказать о моем отце.
— Ах да… — Он вглядывается в глубины бочонка, словно ожидая, что во мраке просияет лицо старого друга. — Верно, собирался…
— Может быть, вы расскажете, как встретились с ним?
— Ах! — Его лицо мгновенно озаряется. — В коллеже д'Аркур, вот где мы познакомились; я, разумеется, был профессором; он студентом. Нет, не одним из моих студентов. Я в те времена жил ради ботаники. С головой ушел в опровержение данных Ренье на тему… ампутации сексуальных органов у алтея розового. Не спорю, его работа получила весьма благоприятные отзывы в… в «Биологическом вестнике»…
— Каким он был? — спрашиваю я, стараясь говорить громче. — Мой отец?
— Ваш отец, он был… довольно молчаливым человеком, да. Не таким молчаливым, каким стал позже, но все же… в нем наблюдалась какая-то внутренняя серьезность. Своеобразная внушительность. Он отличался безупречной вежливостью и чрезвычайным усердием в занятиях — словно не отдавал себе отчета в собственной одаренности. Я, случалось, советовал ему — какой курс пройти, от каких профессоров держаться подальше, и прочее в том же духе. Если советы непрошеные, то им не следуют — так и он, редко им следовал, и все же я думаю, ему было приятно, что кто-то дает ему советы. Нечасто, должно быть, с ним это случалось. И так, слово за слово, мы стали встречаться за чашечкой кофе. По четвергам, утром, в «Афинском мудреце». Вначале, разумеется, платил я, он не располагал средствами. И знаете, что интересно? За много лет мы не пропустили ни одного четверга. Даже в самые напряженные периоды его учебы в Медицинской школе. Мы часто… часто шутили на эту тему. Что мы гораздо серьезнее относимся к этим четвергам, чем к посещению воскресной мессы.
— О чем вы беседовали?
— О девушках, разумеется. — Папаша Время пальцами, как граблями, проводит по бороде. — Ваш отец всегда был — ха! — гораздо больше, чем я, настроен на женитьбу. Я помню тот день, когда он рассказал мне о вашей матери. Да-да — он краснел почти так же, как вы сейчас.
Его взгляд делается неожиданно лукавым. Если до этого я не краснел, то теперь уже точно краснею.
— И конечно, мы рассуждали о политике. В те времена люди часто этим занимались.
— Отец был истинным республиканцем? Убежденным?
— Как сказать… смотря, что считать убежденностью. Он не рядился в санкюлота. Не расхаживал в деревянных башмаках и с вилами, пудрил волосы, и все же он верил, по-своему. Когда я говорю «по-своему», то имею в виду, что в любом его утверждении присутствовала доля скептицизма. Если я принадлежал к типу Руссо, то он был насквозь Вольтер. И само собой, он не причислял себя к жирондистам или монтаньярам. Никогда. Он занимался — ха! — залатыванием их ран. В те времена у докторов работы было столько, что они не справлялись.
Я сжимаю в карманах кулаки. Сгибаю палец на ноге.
— Так значит… у моего отца была практика?
— Он, дитя мое, работал хирургом. В Госпиталь де Гуманите. Но благодаря своему мастерству стал весьма востребованным в… в определенных кругах. О да, ходили слухи, что даже Марат, сам врач, так вот даже он обращался к вашему отцу. Ха! Может, он смог бы спасти жизнь старому мерзавцу — кто знает? «Прочь из моей грязной воды, тряпка!»
— Он когда-нибудь…
Я осекаюсь, потому что меня останавливает… сам отец.
Точнее, воспоминание о нем.
Как обычно, он один. Никем не востребованный. Пьет вечерний чай. (Английский обычай, и когда он к нему пристрастился?) Сначала он всегда быстро выпивает чай, так что открывается дно с чаинками, после чего приступает к намазыванию маслом тоста, делая это с таким же усердием, с каким полирует линзы. Обычно на это уходит добрая часть минуты — покрыть маслом всю, до последнего сантиметра, поверхность поджаренного хлеба, распределить весь, без остатка, тающий кусок. Дотошный и одновременно скрытный, похожий на отшельника, выковыривающего из расщелины затвердевшую плитку припрятанного шоколада.
Мысль, что этот человек может быть востребованным доктором Карпантье…
— Не стоит об этом, — произношу я.
— Но вы ведь хотели о чем-то спросить?
— Так, ничего важного. Просто… я хотел узнать, не доводилось ли моему отцу встречаться с Людовиком Семнадцатым?
Я сожалею о сказанном почти в тот же момент, как вопрос слетает с моих уст.
— Само собой, у меня нет никаких оснований полагать, что…
— Ну, конечно же, он встречался с Людовиком Семнадцатым. Он лечил мальчика.
Лишь позже, наведя некоторый порядок в мыслях, я вспоминаю взгляд, который в ответ бросил на меня Папаша. Вспоминаю дремлющий в этом взгляде холодок, ясный и сухой — в нем не было ни доброты, ни жестокости.
— Так он вам ничего не рассказывал? Ну не забавно ли!
Впрочем, его лицо не выражает особой веселости.
Не замечая, что делаю, я шлепаюсь на его кровать. Разглаживаю тряпку, которая у него сходит за покрывало. Вздымается облако пыли.
— Когда? — выдыхаю я. — Когда он встречался с мальчиком?
— Дайте подумать, ах да, летом девяносто четвертого. Террор только-только пошел на спад. Знаете, я видел, как вели на казнь Робеспьера. Ужасное зрелище. Он всю дорогу выл. Впрочем, на его месте любой бы возмутился, еще бы, когда недостает половины лица…