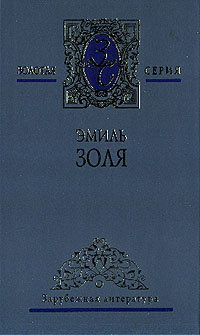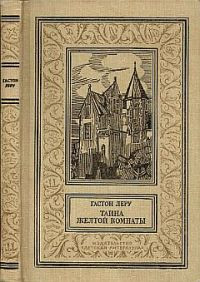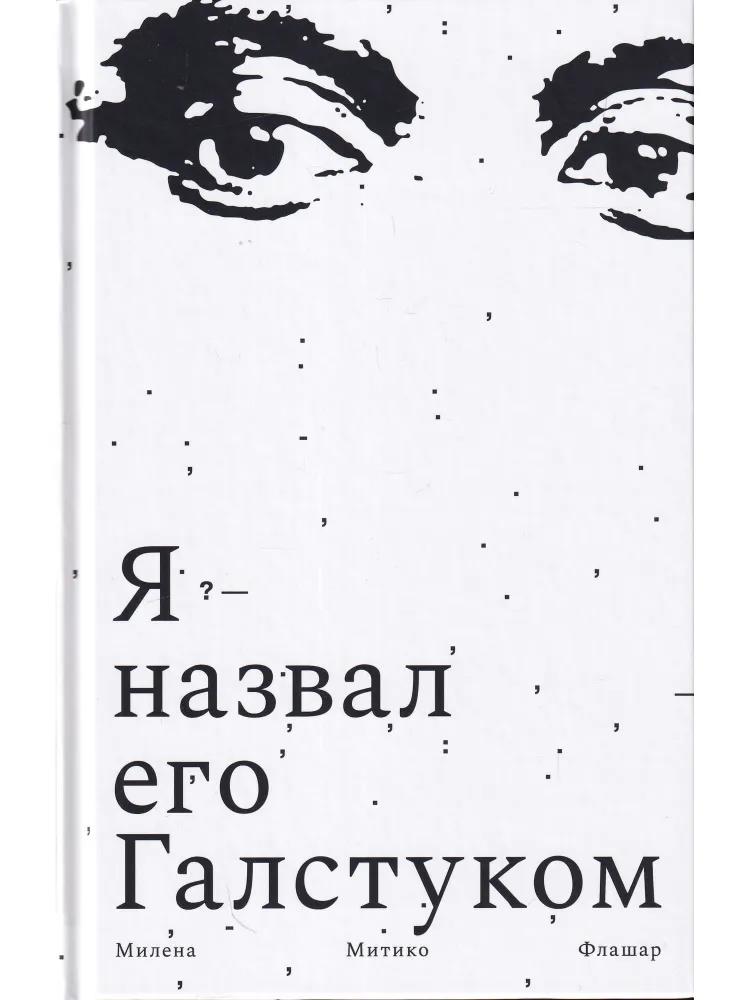Книга Однажды осмелиться… - Ирина Александровна Кудесова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— И тебе нравится этот… экстрим? Ведь в таком случае для тебя тоже… как там? «весна как меч, любовь как лихорадка»?
Алена усмехнулась.
— Тебе так и не терпится, лихорадки этой. Утомительна она.
— Ты-то от нее не лечишься.
— Лечиться от живого чувства?
«Живое». А Вовке скажи — не поймет, о чем речь.
Для него «все тихо-мирно — вот и ладненько».
А живого хотелось бы.
Да где его сыщешь.
Помолчали.
— А что там, ты сказала, про меня? У Секстон? Правда, ужасная фамилия.
— Ну вообще-то там про всех нас. Про всех.
Оля пожала плечом:
— Ты сказала, «Храбрость» называется? Это не про меня, я даже дождя боюсь.
— Который с молниями?
— Который с тучами. — И перехватив насмешливый взгляд: — Имею право! Это не запрещено.
Алена подумала: вот интересно — только что сидела себе Олька-кузнечик на табуретке, поглядывала в окошко, чаек из чашки тянула: держала ее, как белка — орех. И вдруг — бац! — захлопнулась, будто старая книга, едва пыль не летит. Сейчас укусит. Тучек она боится.
Вся в шоколаде, вот и позволяет себе нервы выворачивать.
— А кто тебе его выписал-то, твое право на страх?
Опешила, смотрит с удивлением.
— А чего ты еще боишься, кроме дождика и тараканов?
Вот эти благополучные раздражают. Все у нее есть: муж, души не чающий, дом, ребенок… Понятно, что этого мало. Потому-то и бегает каждый день сюда, и сидит на этой табуретке, держит чашку, как белка — пальчики длинные, тонкие, за душу берет. И жалко ее, благополучную, потому что с собой не в ладу, и не поможешь ей, только если всю ее жизнь под откос пустить — тогда и очнется, лапками засучит. Вот если бы ей, Алене, позволено было бояться, может, она тоже… боялась бы. Тучек и паучков. А то у нее страхи слишком утомительные: что из больницы позвонят — в точности как тогда, когда у Оси сердце схватило на улице, или что у Юльки опять будет приступ астмы — ночью: ребенок задыхается, а ты спишь. Или что стихи окажутся бездарными — это тоже страшно.
— Ален, чего ты от меня хочешь?
Когда Алена становилась агрессивной, как сейчас, Оленька сразу отступала — знать бы, по какому поводу у подружки приступ. Ничего ведь «такого» не сказано.
— Да что я могу хотеть. Просто мне кажется, тебе пора чемоданы собрать и самой попытаться выжить. Тогда хоть страхи будут более-менее обоснованные.
Ну что она, Алена, в этом понимает… Вот Кэтрин… с ней можно было — о таком. Хотя, конечно, лучше Алена со здоровой психикой и страстью поучать.
— Боюсь я чемоданы собирать.
— Догадываюсь.
— И в болоте этом увязнуть боюсь.
— А страшнее что?
Сто раз она задавала себе этот вопрос: что страшнее — всю жизнь с Вовкой проторчать или сунуться в неизвестность — в без малого тридцать лет, с ребенком. А Степке-то каково? И на что жить? И с кем? Одной? Ждать кого-то? Искать? Когда, где? В Интернете вылавливать завалявшихся мужчинок? Только не это.
— Я не знаю, что страшнее, Алена. Наверно, первое.
— Тепло в болотце?
Сидишь как на допросе. Но и не уйдешь: есть в Аленке что-то, сила какая-то; действует, как дуда на удава.
— Не понимаю, что ты предлагаешь?
— Я предлагаю не бояться. Всего-то.
Так и запишем: с завтрашнего дня холодным потом не покрываюсь. Храбрый заяц вышел на тропу войны.
— А как…
И тут, как назло, у Алены начинает пиликать телефон, этот ее Иосиф аккуратно около десяти вечера или эсэмэску шлет, или отправляется на лестничную клетку якобы курить, а на самом деле в чувстве юмора тренироваться.
Алена пофыркивала в трубку, когда позвонил Вовка и сообщил, что объявился какой-то тип, работу предлагает, что-то, похоже, интересное. Ну конечно. На блюдечке — работу мечты. Так и сказала ему: «А каемочку не заметил? Голубую?» Но мало ли что. Тем более Алена зависла с Иосифом, он ей что-то потешное повествовал. Вот так всегда, на самом любопытном месте… Дверь сама захлопнулась.
10
Не то чтобы Степан больше любил Вовку, чем ее. А может, так оно и было. Вовка, ходивший у Степана скорее в приятелях, то ли не хотел, то ли просто не умел существовать в шкуре «отца». Кто такой отец? Это каменная стена. И даже если она на самом-то деле из песка мокрого, об этом никто, ну просто никто не должен знать в семье. Но Оленька знала. И, похоже, знал Степан.
— Вов, будешь в машинки играть?
Он повторял за Оленькой, называя отца по имени.
Они были очень дружны, большой ребенок и малолетний. Верно: ведь это Вовка настоял на рождении Степана, вот и вышла домашняя камерная мафия.
Иногда Оленьке казалось — оставь она их вдвоем, отправься далеко, пообещав когда-нибудь вернуться, они не пропадут. Степан — спокойный, раздумчивый Степан и заботливый Вовка, на доме зацикленный. Степан, что так тяжело привыкает к новому, и Вовка, которому весь мир побоку. «Нет там чудес», — как-то сказал. Наверно, он в детстве, как и Степа, ел только из своей тарелки и не терпел сюрпризов: из-под съеденной каши должен появиться только ослик Иа, и никто больше. Интересно, а у Вовкиной тарелки кто был на дне нарисован?..
Однажды решила порадовать Степана, купила две — точь-в-точь такие же, как с осликом, — тарелки с Винни Пухом и Кроликом. Подсунула Кролика. Доел, посмотрел серьезно так: «Где мой Иа?» — и как-то совестно стало, непонятно отчего. С тех пор больше не экспериментировала.
Степа. Могла бы она его оставить — хоть ненадолго, — это теплое, родное? И такое непохожее на нее. В четыре года он управляется со своим детским мирком так, что ей иногда кажется — она лишняя. Она пришелица в этом маленьком серьезном мире, где не подменяют тарелки, где игрушки всегда на местах, где положено приходить вовремя, чтобы потом не извиняться перед воспитательницей, — вот ведь папа отводит в сад когда следует, а мама каждый раз опаздывает забрать, и каждый раз такой виноватый вид у мамы, и потом перед всей группой Наталья Петровна говорит, что за Степой опять позже всех пришли, и Димка после обзывается, дурачок.
Если вдруг на минуту представить себе, что она уйдет. Потому что невыносимо это, так и не ставшее близким: «АКЕТПА» за