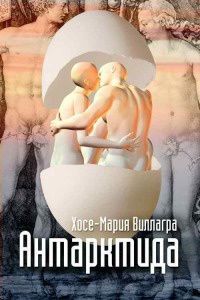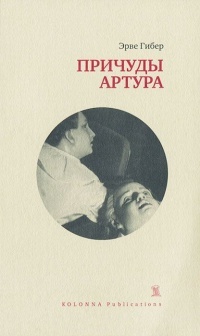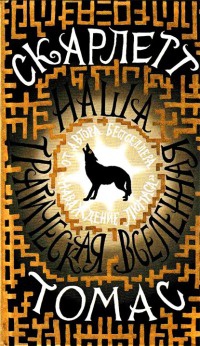Книга Годы - Анни Эрно
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Смерть интеллектуалов и певцов добавляла времени толику скорби и обездоленности. Ролан Барт погиб слишком рано. К смерти Сартра мы готовились загодя, и вот она случилась: торжественные похороны, миллион человек за гробом и Симона де Бовуар, у которой сполз тюрбан, когда тело опускали в землю. Сартр в два раза пережил Камю, ушедшего вместе с Жераром Филипом давным-давно в могильный холод зимы 59–60-го годов.
Смерти Бреля и Брассенса, так же, как и давняя уже смерть Пиаф, вызывали скорее растерянность, словно им полагалось сопровождать нас всю жизнь, хотя мы уже почти и не слушали их песни — один почти морализатор, другой — симпатичный анархист: мы предпочитали им Рено и Сушона. И совсем другое дело — дурацкая смерть Клода Франсуа от удара током в собственной ванне, которая случилась накануне первого тура выборов в законодательное собрание, — левые проиграли, хотя все ждали, что победа будет за ними; или смерть Джо Дассена от инфаркта. Он был почти что наш ровесник. И вдруг мы почувствовали, как далеко теперь весна 75-го года и падение Сайгона, и взлет надежды, с которым ассоциировалось его «Индийское лето».
В конце семидесятых, во время застолий, сохранившихся несмотря на географическую разбросанность членов семьи, память становилась короче.
За столом с морскими гребешками, рагу из говядины, купленной у мясника, а не в супермаркете, с гарниром из картофеля «дофинуа», размороженного, но по вкусу почти неотличимого от настоящего, говорили про машины и сравнивали марки, обсуждали, что лучше — строиться или купить готовый дом, рассказывали про последний отпуск, про потребление времени и вещей. Инстинктивно избегая тем, бередящих застарелые социальные конфликты, культурные разногласия, мы подробно разбирали общее настоящее: взрывы пластиковых бомб на Корсике, теракты в Испании и Ирландии, бриллианты Бокассы, памфлет на Жискара д’Эстена, кандидатуру Колюша[55] на президентских выборах, Бьорна Борга, пищевой краситель E-123, разные фильмы, «Большую Жратву»[56], которую посмотрели все, кроме дедушки с бабушкой, вообще не ходивших в кино, и «Манхэттен»[57], который смотрели только самые продвинутые. Женщины, улучив минуту, обсуждали дела хозяйственные: как лучше складывать натяжные простыни, почему джинсы протираются на коленках, как с помощью соли вывести со скатерти винные пятна, но в общей беседе монополия выбора тем по-прежнему принадлежала мужчинам.
Пережевывание воспоминаний военной поры иссякло, разве что к десерту просыпалось иногда у самых старых, оживляемое шампанским, — их слушали и улыбались так же, как если бы они заговорили про Мориса Шевалье и Джозефину Бейкер. Связь с прошлым исчезала на глазах. Мы транслировали одно настоящее.
Тема детей занимала тревожные беседы родителей: они сравнивали свои способы воспитывать их и справляться с той вседозволенностью, которой в их времена не было, решали, что запрещать или разрешать (противозачаточные таблетки, дискотеки, курение, мопед). Обсуждали достоинства частных школ, пользу изучения немецкого языка, лингвистических стажировок за границей. Искали хороший колледж, хороший класс, хороший лицей, хороших преподавателей — стремясь к лучшему во что бы то ни стало, чтобы дать детям правильное окружение и безболезненно привить им индивидуальную успешность, которая зависела исключительно от родителей.
Время детей вытесняло время мертвых.
На осторожные расспросы о развлечениях и о любимой музыке подростки отвечали послушно, лаконично и настороженно, уверенные, что в глубине души нас не интересуют их вкусы, разве что как проявления чего-то такого, во что они не особенно хотели нас посвящать. И, путаясь в их ролевых играх, стрелялках и героическом фэнтези, мы успокаивали себя тем, что они упоминают и «Властелина колец» и «Битлз», а не только «Пинк Флойд» и «Секс Пистолс», и тяжелый рок, которым они мучили нас с утра до вечера. Глядя, какие они милые в своих пуловерах с вырезом-углом и клетчатых рубашках, как аккуратно подстрижены, мы думали, что пока еще они в безопасности, им не грозят наркотики, шизофрения и биржа труда.
После десерта самых маленьких приглашали продемонстрировать поделки из гвоздиков и бечевки или ловкость в собирании кубика Рубика, или сыграть на пианино «Маленького негритенка» Дебюсси, которого никто, к досаде родителей, толком не слушал. После некоторых препинаний мысль о том, чтобы завершить семейный сбор какой-нибудь общей игрой, отклонялась, поскольку молодежь не играла в бридж, старики побаивались скраббла, а «Монополия» требовала кучу времени.
А мы, на подходе к восьмидесятым годам как раз ставшие сорокалетними, сидя в усталой размягченности от успешно соблюденной традиции, оглядывали сидящих за столом, чьи лица против света казались темными, и нам внезапно думалось, как странно повторяется ритуал, — только теперь сами мы оказались посредине, между двух поколений. От этой незыблемости голова шла кругом, как будто в обществе ничто не изменилось. Под неразличимый гул голосов, вдруг как бы отделившихся от тел, внезапно возникала мысль о том, что и в семейную трапезу может вторгнуться что-то настолько безумное, что захочется вдруг заорать и опрокинуть обеденный стол.
По собственному желанию и по воле государства, при поддержке банков и жилищных накопительных программ люди «получали доступ к собственности». Осуществившись, эта мечта, это достижение определенной социальной ступени словно бы сокращало время, приближало семейные пары к старости: здесь они проживут вместе до смерти. Работа, женитьба, дети. Они прошли до конца маршрут воспроизводства, теперь отлитый в камне и закрепленный рассрочкой на двадцать лет. И теперь очертя голову бросались что-то мастерить, перекрашивать стены и клеить обои. Иногда хотелось вернуться назад. Они завидовали молодежи, с родительского и всеобщего одобрения жившей с кем угодно и где угодно, — им такое не разрешали. Вокруг множились разводы. Они пробовали смотреть эротические фильмы, покупали эротическое белье. Женщинам, которые спали с одним и тем же мужчиной, казалось, что они застряли в девичестве. Интервалы между месячными словно становились короче. Женщины сравнивали свою жизнь с жизнью незамужних и разведенных подруг, с грустью засматривались на какую-нибудь туристку с рюкзаком, сидящую на земле перед вокзалом и спокойно пьющую из пакета молоко. Чтобы проверить, можно ли жить без мужа, в одиночку ходили в кино на дневной сеанс с внутренней дрожью и мыслью о том, что все вокруг знают, что им здесь быть не положено.
Они возвращались на большой рынок флирта, снова открываясь для приключений мира, от которых удалило их замужество и материнство. Им хотелось съездить в отпуск без мужа и детей, и вдруг страшно было оказаться одной в отеле. День за днем они то хотели, то боялись все бросить и снова стать независимыми. Чтобы понять свое истинное желание и набраться храбрости, ходили на фильмы — «Женщина под влиянием» Кассаветиса, «Идентификация женщины» Антониони, читали «Женщину-левшу» Петера Хандке и «Верную жену». Прежде чем решиться на развод, нужны были долгие месяцы супружеских сцен и усталых примирений, бесед с подругами, осторожных намеков родителям на размолвки в семье — а ведь они предупреждали в момент женитьбы, что «у нас в роду не разводятся». Перепись мебели и утвари, которые собирались делить, чаще всего обозначала точку невозврата в процессе расставания. Составлялся список вещей, накопленных за пятнадцать лет: