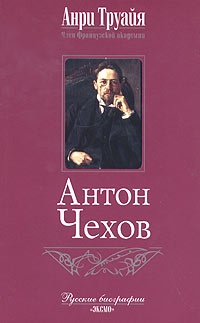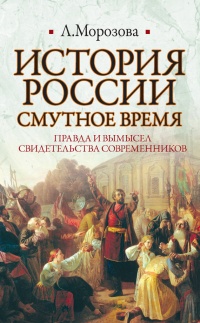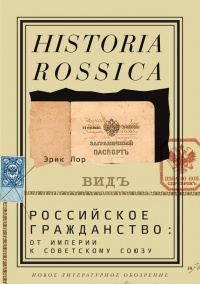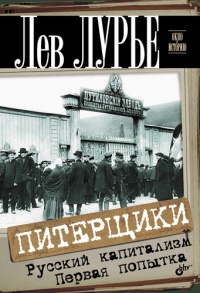Книга Чехов - Алевтина Кузичева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чехов вернулся в Москву 2 июля. Через два дня он, Книппер и Вишневский перебрались в Любимовку, где Чехов отводил душу за рыбной ловлей, позволявшей не говорить, а думать.
* * *
В письмах Чехова появился какой-то покой, как будто что-то решилось во время или после поездки в Усолье. Может быть, то, что он не станет писать пьесу к сроку, то есть к началу этого сезона. Может быть, то, о чем он напишет.
Поблагодарив Станиславского за Любимовку, Чехов писал ему 18 июля: «Пьесы еще не начинал, только обдумываю. Начну, вероятно, не раньше конца августа». Большая двухэтажная дача на берегу Клязьмы, деревянная, с балконом, с террасой, походила на старые барские дома, любимые Чеховым со времен Бабкина. Станиславский, уезжая на отдых в Германию, отдал необходимые распоряжения, зная, по его словам, «болезненную церемонность и застенчивость» Чехова в чужом доме. Казалось — условия идеальные для работы. И Книппер писала Константину Сергеевичу, что муж вот-вот сядет за пьесу, рисовала идиллическую картину: «Живем мы тихо, покойно, уютно».
Однако летом 1902 года идиллии не получалось. Чехов из чувства признательности за помощь в дни болезни жены, кажется, с трудом выносил каждодневное присутствие Вишневского, всегда требовавшего внимания к себе. Между тем Чехову хотелось остаться наедине со своей пьесой. Он то говорил Ольге Леонардовне, что ему нравится шум поезда и как бы воспроизвести его на сцене. То рассказывал, что пьеса будет в четырех действиях, что долго ждут какого-то господина, он то едет, то не едет, и вдруг телеграмма — он умер.
В этом сочетании шума поезда и известия о смерти оказывалось что-то близкое сюжетам, которыми Чехов делился с приятелями в давние годы. Один из них запомнил Щеглов, сказав, что он покрыт «меланхолической светотенью смерти и жизни»: «Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи Железнодорожной станции… Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее не искренна и что она больше вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих…» Другой сюжет остался в памяти Лазарева: тоже станция, недалеко имение. Однажды паровоз подкатил к платформе товарный вагон. В нем гроб с телом единственного сына хозяйки имения.
Всё это хранилось вместе с другими сюжетами в голове Чехова, с множеством его «чад», «детищ», все еще ждавших своего часа. Но эти — о «шуме жизни» и неизбежности смерти — вдруг стали всплывать в разговорах.
Но какая же это комедия, как обещал Чехов? Может быть, такая же, как «Чайка»? Комедия жизни о «насмешливом» человеческом счастье? И писать ее тоже следует свободно, «против условий сцены», безоглядно? Не по правилам даже Художественного театра, а так, как видится, как хочется написать?
В середине августа, как было давно обговорено, один, потому что Ольге Леонардовне врачи запретили ехать в Ялту, Чехов покинул Любимовку. Он не сказал жене, что у него в мокроте появилась кровь. Книппер передала с ним письмо для Марии Павловны. В нем она объяснила отъезд мужа желанием родных разлучить супругов, наконец-то освободить Чехова от ухода за ней. Назвала свекровь и золовку «жестокими», упрекнула в черствости. Обиженная Мария Павловна позволила прочесть это послание брату, который тут же написал жене: «За что ты обругала Машу? Твое письмо очень и очень несправедливо, но что написано пером, того не вырубишь топором, Бог с ним совсем. Повторяю опять: честным словом клянусь, что мать и Маша приглашали и тебя и меня — и ни разу меня одного, что они к тебе относились всегда тепло и сердечно. Я скоро возвращусь в Москву, здесь не стану жить, хотя здесь очень хорошо. Пьесы писать не буду. Мать умоляет меня купить клочок земли под Москвой. Но я ничего ей не говорю, настроение сегодня сквернейшее, погожу до завтра. Целую тебя и обнимаю, будь здорова, береги себя. Пиши почаще. Твой А.».
Письмо на самом деле было несправедливым. Мария Павловна все лето писала Ольге Леонардовне, что ждет ее и брата в Ялту: «Когда ты больна, меня еще больше тянет к тебе, моя дорогая. Если хочешь, я поеду за тобой и осторожно и бережно привезу тебя домой». В летних письмах Книппер в Ялту тоже все было до злополучного письма тихо и мирно, особенно из Любимовки, в рассказах, как заботятся о них Алексеевы: «Даже, говорят, благовестить запретили громко. А церковь здесь же, рядом, летняя, славненькая и слышно пение, когда сидишь в саду или на террасе. Прочла „Свидание“ Бунина, посвященное тебе, и многое поняла».
Никаких следов сильного переживания или тяжелого настроения нет и в первых письмах Книппер после отъезда Чехова. Она вернулась к стилю своих посланий годичной давности. Такие же мелодраматические детали: «Я опять целовала твою фуражку, верно, каждый день так буду делать». Снова нежные прощания, раскаяния, уверения в любви: «Прости меня, дусик, за каждую неприятную минуту, кот. я доставила тебе, а их было много, и я негодую на себя, что не сдерживала себя». Но более всего рассказывала о гостях, зачастивших в Любимовку, о Немировиче, с которым болтали под шум дождя и раскладывали пасьянс, об обедах у Алексеевых и т. п.
Поэтому делано или наивно удивилась, получив письмо мужа: «Ты пишешь, что будто я обругала Машу? Каким образом? Я, действительно, писала Маше сильно расстроенная, и даже не помню, что я писала». Далее, как всегда в таких случаях, стала нападать: «Если бы Маша действительно любила меня по-прежнему и относилась бы сердечно, она бы никогда не показала тебе моего письма и чутьем бы отгадала, в каком настроении я его писала. Когда Маша присылала мне письма, которые, я знала, могли бы взволновать тебя — я их скрывала от тебя, и не впутывала тебя в наши отношения, несмотря на то, что многое было, чего не должно было быть. Ты от меня никогда ничего не слыхал».
Чутья, наверно, не хватило обеим. Сестра и жена на короткое время «впутали» Чехова в свои отношения. Сами они вскоре объяснились в письмах. Свой срыв Ольга Леонардовна мотивировала недостатком внимания к ней Марии Павловны во время ее болезни и взывала к состраданию: «Я сильно поседела, а теперь и душой постарела. Ты теперь вся ушла в свою жизнь и потому чуждаешься меня, и уверяю тебя, что ты хуже, чем следует, думаешь обо мне». Эта скрытая жизнь Марии Павловны приоткрывалась в письмах Бунина. На пути из Ялты домой он писал ей из Севастополя 2 августа 1902 года: «Второй день, то есть с самого отъезда из Гурзуфа, до физической боли тоскую. Опять я в пути, в своем бесконечном пути, и так как и вчера, и сегодня нет поблизости ни одного более или менее родного человека, хочется плакать от одиночества. Впрочем, этих близких людей у меня на всем свете не более десяти. Вы одна из них, и вчера я даже хотел снова проехать к Вам в Гурзуф провести вечер, так как было страшно одиноко, а мне так грустно за последнее время! Мафочка, крепко целую Ваши ручки, вспоминаю Вашу милую мазанку среди камней в Гурзуфе и прошу Вас немного пожалеть меня».
Объяснившись, Книппер и Мария Павловна успокоились. Правда, Ольга Леонардовна, кажется, поняла, что история с письмом повлияла на настроение мужа, а значит, и на работу: «Пьесу все-таки пиши. Теперь ты у себя дома, тебе уютно, тепло, сиди, работай, забудь передряги последнего времени. Успокойся». Она не обещала перемен в ближайшем будущем: «Я тебя как будто вышибаю из колеи, тяжелю твою жизнь. Прости мне, родной мой. Боже мой, если бы я умела, если бы я могла сделать тебе жизнь приятной, легкой, если бы я могла измениться — как бы я была счастлива, безумно счастлива!»