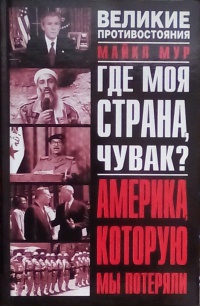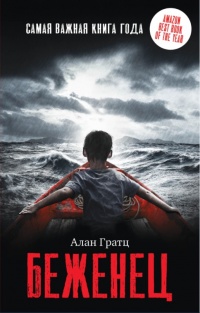Книга Отец и мать - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Различил сквозь занавеску огонёк в её закутке. Не ложится спать, поджидает! – ликовал, оправляя френч, приглаживая ладонью чуб. Ещё какие-то секунды – и он увидит Екатерину, свою Катю, Катеньку, Катюшу. Непременно что-нибудь такое особенное начнётся, не может не начаться. Другая, не другая жизнь завяжется, когда он увидит Екатерину, но чему-нибудь особенному случиться.
Но только, как раньше поступал, хотел перемахнуть в палисадник и легонечко постучать в окошко, как вдруг от ворот отъединилась тень.
Афанасий, чуточку испуганный, даже вскрикнул:
– Катя!
– Это я, Афанасий. Поджидаю тебя на скамейке. Ведь не мог ты не заглянуть к нам – правильно?
– Тётя Люба?
– Ну, я это, я.
– Здравствуйте. А где Катя?
– Здравствуй, Афанасий, здравствуй, родной, – приветствовала женщина вздыхая.
Помолчала, возможно, собираясь с духом.
– Разговор к тебе имеется. Не буду плутать в словесах, наводить тень на плетень, а напрямки говорю: не судьба тебе моя Катька. Не судьба. Ты парень видный, умный, мастеровитый, в анжанерá выбьешься – найдёшь себе девушку ровню, полегоньку обустроишь свою судьбу. Ступай с миром. Ступай. Вот весь тебе мой сказ.
Афанасий застыл, но чует – весь охвачен огнём, и изнутри, и снаружи. И начинает что-то говорить – сипота пресекает речь, комкаются слова.
Наконец, произнёс, выбивал из себя почти что по слогам:
– Любовь Фёдоровна, что же вы такое говорите? Не надо мне других девушек. Мне ваша Катя нужна.
– Я ить, сынок, не по своей воле говорю, а по её великой просьбе. Не хочет она с тобой дружбу водить. Отдельную от тебя намерена торить судьбу. А ты – отступи. Не мешай ей, Афанасий. Уходи. – Помолчав, прибавила на полушепоточке: – Ступай с богом.
Афанасий задохнулся закипевшим в груди огнём:
– Она… не хочет… тётя Люба… да вы что… да как… зачем, зачем вы так… – горлом выдирались спекавшиеся в сгустки слова.
Любовь Фёдоровна всхлипнула, легонечко погладила Афанасия по рукаву френча:
– Ну, чего уж ты, родненький? Ну, вот так оно вышло. Смирись, отступи, Афанасий, и начни жизнь наново. Ты молоденький, ты чего только ещё не добьёшься в жизни, с кем только ещё не повстречаешься.
Афанасий зачем-то весь вытянулся, зачем-то оправил френч, зачем-то пригладил ладонью чуб.
– Позовите, пожалуйста, Катю, – сказал чеканно.
Однако голоса своего и сам не признал: чужой он, будто кто-то другой, из-за спины, исподтишка, произнёс. Не голос – металл, тонкий сталистый металл, но дребезжит, когда его пробуют на изгиб.
– Знаю, что шибко упористый ты. Не отступаете вы, Ветровы, по-простому-то. Что ж, погоди чуток – перетолкую с ней. Выйдет – так выйдет, не выйдет – так не выйдет. Её решение и судьба будут.
И, неопределённо потоптавшись ещё, повздыхав, неестественно припадающей походкой скрылась за калиткой.
Долго никто не появлялся. В доме, слышал обмерший, наструненный каждой жилкой Афанасий, встрепенулись и оборвались голоса, пометался и погас в закутке Екатерины огонёк. Однако снова зажёгся, снова забился: возможно, боролись за него, не давая загасить.
Неужели не выйдет? За что она с ним так? За что? Хотелось крикнуть. Гнев и обида ломали разум.
И, может быть, крикнул бы, да вдруг вскрипнуло. Калитка приоткрылась – Афанасия пошатнуло, словно бы ударило внезапно вихрем. Как в тумане – не сразу понял, что глаза обложило влагой, – увидел Екатерину. И вот только что и вокруг, и в нём самом была тьма, жуткая непроглядность, а вышла любимая – увидел её ясной и светлой. Вся она сияет, свет от неё исходит. И дали, почудилось, разъяснились, и небо засветилось – не в приветствии ли. От души отхлынула тьма, губы тронуло улыбкой.
Как прекрасна его любимая, как он ждал этой минуты!
Сколько передумано там, в Иркутске, с какой ясной душой приехал он на родину, чтобы навсегда соединиться с любимой. Вот она! Подойди к ней, возьми её за руку, скажи припасённые для неё самые ласковые, самые сокровенные слова.
– Катя! – в полшага шагнул он навстречу. – Катенька!..
Но нечто невероятное произошло: она стремительно и строго взглянула на Афанасия. Он, застопорившись в полуметре, наткнулся взглядом на чёрный свет её невероятных прекрасных глаз. Оробел, совсем потерялся, оборвался на особенно любимом им, милуемом в мыслях слове «Катюша».
– Я тебя не люблю, – произнесла она без чувств, ровно, холодно.
– Меня… не любишь?..
– Да, не люблю.
– Ты чего, Катя, чего ты? Зачем же ты меня кувалдой по голове?
Но она, казалось, не слышала, не понимала его слов. Была неумолима, страшно чужа:
– Парень у меня есть. Полюбила его. Прощай.
Он придержал её за локоток. Она не далась – отхлынула мягкой, но сильной волной.
– Неправда! – выкрикнул.
– Правда, – ответила тихо и ровно.
– Кто он?!
– Уходи.
– Катя!
Но её уже нет. Нет как нет.
Не убежала – растворилась, погасла в пространстве земли и неба.
Может быть, её не было и вовсе?
Ни любви, ничего не было?
И нет света. Пропал он, рассыпался во тьме, завяз в ней.
И нет её прекрасных, невозможных, единственных на весь белый свет глаз, в которых огонь и темнота неделимы и едины, как неделимо и едино небо ночи со своими звёздами и планетами. Тишина. Куда ни посмотри – ночь.
И в груди Афанасия ночь, непроглядность. Отполыхало, прогорело и остались одни чёрные угли и сажа. Не видит он ни неба, ни далей, ни даже дома Екатерины, перед которым стоит. Стоит, возможно, как на распутье герой сказки, остановившийся перед камнем, на котором судьбоуказующе начертано: «Направо пойдёшь…» Но герою сказки, видимо, всё же полегче – ему определено поступить по писаному. А что делать Афанасию? Кто для него напишет подсказку, укажет направление? Недавно рассказывал землякам, как надо жить, как следует понимать деятельность партии и правительства, товарища Сталина; говорил о том, чтó вычитал в газетах и услышал на лекциях. А самому как теперь жить? Куда идти, что делать, даже – что думать?
Может быть, Афанасию снится ужасный сон? Может быть, нужно встряхнуться, чтобы проснуться? Проснуться и ожидать, сладко томясь сердцем, встречу.
В доме свет не появился.
Тишина и ночь.
Нет, не сон. Но и на явь не похоже.
Побрёл Афанасий неведомо куда и зачем.
Видит – клуб, света в нём много, наверное, две-три керосинки запалили. Зашёл, тягучим шагом взобравшись по ступенькам высокого крыльца. Мрачно обозрел – народ в зале толчётся, тени сшибаются и коробятся на стенах. Патефон скрипит истасканным трофейным фокстротом. Пары ногами шуршат по плахам пола среди окурков и ошметьев глины и назёма. Со стен невозмутимо смотрят на людей Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс. Посерёдке зала, видимо, для украшения, торчит разросшийся до самого потолка фикус в бочке, толсто-жирными листьями сыто, самодовольно лоснится.