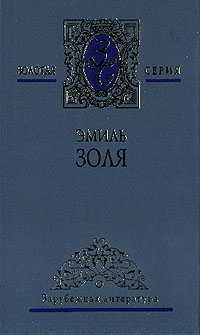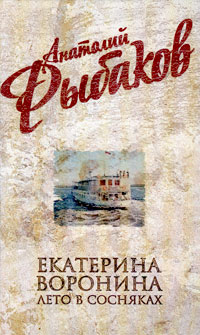Книга Куртизанка Сонника - Висенте Бласко Ибаньес
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То были рабы, которые, возбужденные видом пира, продолжали под открытым небом сцены, разыгрывавшиеся в триклиниуме.
Грек улыбнулся, думая, что праздник еще увеличит новыми рабами богатство хозяйки дома.
Пусть наслаждаются в мире. Помешать — значило бы вредить Соннике.
Он прошел огромные владения куртизанки, фиговые рощи, большие масленичные плантации и вышел на Змеиную дорогу. Кто-то ехал по ней. Вдали слышался лошадиный топот, и Актеон увидел при голубоватом свете занимавшегося утра всадника, без сомнения, направлявшегося к воротам.
Когда он подъехал, афинянин сразу узнал его, несмотря на то что его голова была покрыта капюшоном. Это был кельтиберийский пастух. Грек бросился к лошади и схватил ее под уздцы, между тем как всадник, задержанный в пути, откинулся назад и выхватил кинжал из кожаных ножен за поясом.
— Брось! — тихо сказал Актеон. — Я остановил тебя потому, что ты мне знаком. Ты Ганнибал, сын великого Гамилькара. Ты можешь скрываться под маской от сагунтинцев; твой же друг детства всегда узнает тебя.
Африканец приблизил голову, покрытую густыми волосами, и его зоркие глаза в полумраке узнали грека.
— Это ты, Актеон? Встречая тебя вчера столько раз, я знал, что ты наконец узнаешь меня. Что ты тут делаешь?
— Живу в доме богачки Сонники.
— Я слыхал о ней: это гречанка, известная своей красотой и талантами афинской куртизанки. Мне хотелось бы познакомиться с ней, и думаю, я полюбил бы ее, если бы задачей мужчин было вращаться среди женщин. У тебя нет другого дела?
— Я воин по найму у города.
— Ты?… Сын Лизастра, доверенного вождя Гамилькара? Человек, воспитанный в Афинах, на службе у варварского и купеческого города!..
Он помолчал, как бы изумленный поведением грека, и продолжал решительно:
— Садись на лошадь позади меня. Поедем ко мне. В порту меня ждет карфагенский корабль с грузом серебра. Я отправляюсь в Новый Карфаген, чтобы стать во главе своих соотечественников. Дни славы приближаются, начинается чудное смелое предприятие, как предприятие гигантов, нагромоздивших горы, чтобы взобраться на ваш Олимп. Поедем со мной: ты друг моего детства, я знал тебя раньше, чем Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара, данных мне славным полководцем в братья. Он называл нас «тремя львятами». Я знаю тебя: ты ловок и храбр, как твой отец. Со мной ты наживешь богатство. Может быть, сделаешься царем какой-нибудь прекрасной страны, когда я, следуя примеру Александра, поделю между моими полководцами свои завоевания.
— Нет, карфагенянин, — ответил серьезно Актеон. — Я не презираю тебя и с удовольствием вспоминаю о наших первых годах жизни, но не поеду с тобой. Против этого твое происхождение, прошлое твоего народа, окровавленная тень моего отца.
— Происхождение — воображение; народ только предлог для начала войны. Не все ли равно тебе — служить Карфагену или другой республике, если ты грек? Если бы мои соплеменники покинули меня, я отправился бы в какую-нибудь другую страну. Мы — люди войны, мы сражаемся ради славы, ради могущества и богатства; нужды нашего народа только служат для оправдания наших побед и грабежа наших врагов. Я ненавижу карфагенских купцов, мирных и приникших к своим лавкам, а также и высокомерных римлян. Едем, Актеон; раз мы встретились, последуй за мной: счастье мне сопутствует.
— Нет, Ганнибал, оставь меня здесь. Увидев твоих африканских солдат, я вспомню чернь, распявшую Лизастра.
— Преступление было неминуемо: безумие беспощадной войны, на которую нас вызвали наемники. Отец мой не раз сокрушался об этом, вспоминая своего верного Лизастра. Я постараюсь исправить несправедливости Карфагена.
— Я не последую за тобой. Я простился с войной и грабежом. Я предпочитаю жить здесь тихой и спокойной жизнью со своей Сонникой, любящей мир, как любой сагунтинец, живущий в коммерческом квартале.
— Мир!.. Мир!..
И тихая дорога огласилась резким и грубым хохотом, который Актеон слышал на ступенях храма Афродиты, когда римские послы садились на суда.
— Слушай хорошенько, Актеон, — сказал африканец, снова возвращаясь к своей серьезности, — доказательством того, что я сохранил воспоминание о нашей детской дружбе, служит откровенность, с которой я сообщаю тебе мои мысли. Пойми — только тебе!.. Если бы во время сна в моей палатке у меня вырвалось одно слово о том, что я думаю, я бы заколол стражника, охраняющего мой сон… Ты говоришь о мире!.. Проснись, Актеон! Если хочешь найти где-нибудь мир, отправляйся с этой гречанкой, которую любишь, далеко… далеко… Там, где я, ты не найдешь спокойствия, пока я не стану повелителем мира. Война следует за мной по пятам, кто не подчиняется мне, тот должен умереть или стать моим рабом.
Грек понял угрозу, заключавшуюся в этих словах.
— Вспомни, Ганнибал, что этот город все равно что Рим. Он союзник республики, и она покровительствует ему.
— Ты думаешь, я боюсь Рима?… Я ненавижу Сагунт за то, что он кичится своим союзом, а меня презирает и забывает, хотя я здесь. Он делает вид, что спокоен, потому что ему покровительствует эта отдаленная республика, и относится с насмешкой ко мне, хотя я царствую над всеми полуостровами до самого Эбро и стою, так сказать, у ворот Сагунта. Он враждует с турдетанцами, моими союзниками, как все иберийские племена, и в своих стенах обезглавливает любящих меня горожан, друзей великого Гамилькара… О, слепой и надменный город! Дорого тебе обойдется, что в тебе живет Ганнибал, и ты его не знаешь!..
Обернувшись на седле, он с угрозой смотрел на Акрополь Сагунта, обрисовывавшийся в предрассветном тумане.
— Рим устремится на тебя, как скоро ты нападешь на его союзника.
— Пусть себе! — вызывающе воскликнул африканец. — Этого я именно и желаю. Мир тяготит меня: не могу я привыкнуть к мысли о порабощении Карфагена, пока существуют такие люди, как я и мои друзья. О Рим! О Африка! Пусть же наступит скорей последнее столкновение, высшее напряжение, и пусть станет господином мира народ, который устоит на ногах… Я ненавижу богачей своей страны, живущих беспечально, забывая позор поражения, потому что они могут спокойно торговать и набивать свои подвалы серебром. Эти негодяи после наших поражений в Сицилии задумали было покинуть Карфаген и переселиться на острова Великого моря, чтобы жить в покое. Это настоящие карфагеняне-финикияне, не знающие другой славы, кроме меновой торговли, других стремлений, кроме открытия новых гаваней для сбыта своих товаров. Мы, семья Барка, — ливийцы: мы потомки богов; у нас, как у них, широкий горизонт мысли; мы стремимся или повелевать, или умереть… Эти купцы не понимают, что недостаточно быть богатым; что необходимо господствовать и внушать страх; они образуют в Карфагене партию мира, отравившую жизнь моего отца своим сопротивлением и меня поставившую особняком, без помощи, кроме той, какую я могу достать себе на полуострове. Они не понимают, почему Барки стремятся к мировому могуществу Карфагена. Отец в потере Сицилии видел смерть для нашего народа и пытался спасти его. Мы лишились большой части нашей древней торговли: нам нужно было войско для защиты против римского честолюбия, а войска у нас не было. Граждане Карфагена годятся для того, чтобы воевать в своих землях. Коммерсанту в тягость оружие, и он не выносит походов в продолжение целых месяцев и даже лет во враждебных странах. Им легче получать прибыль путем торговли, чем добывать добычу кровью, и так как они любят деньги, то неохотно платят иностранным солдатам. Ради денег Гамилькар привел нас на полуостровки мы открыли карфагенянам новые гавани и рынки, а Барки содержат войско, набранное ими самими. Мы не обращаем внимания на то, что в карфагенском сенате друзья мира отказывают нам в доставке солдат. Иберийские племена любили моего отца, узнав на деле его энергию, и они возьмутся за оружие по призыву Барков против врага, которого мы им укажем.