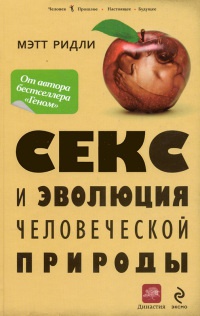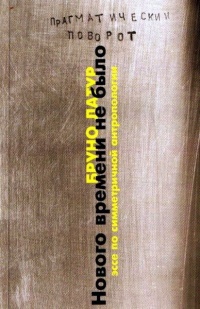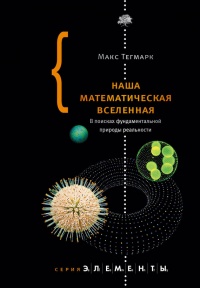Книга Политики природы. Как привить наукам демократию - Брюно Латур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несложно возразить, что, как бы мы ни петляли, говорит всегда ученый. Если мы готовы поставить на одну доску научный спор и политическую дискуссию, мы не можем без подозрения относиться к неконтролируемому распространению речевой сферы на вещи. Хотя на самом-то деле ругаются именно люди. Существует асимметрия, которая непреодолима не только на практике, но и с точки зрения права. Если мы хотим сохранить особое место человека и это восхитительное определение «политического животного», которое издавна служит фундаментом общественной жизни: человек, по крайней мере гражданин мужского пола, имеет право гражданства поскольку он свободно выступает на агоре. Да кто же с этим спорит? Кто хочет вернуться к этому определению? Кто хочет уничтожить его окончательно? Мы по-прежнему находимся под влиянием этих принципов, долгой и почтенной традиции, которая расширяла определения того, что мы называем человеком, гражданством, свободой, речью и правом на гражданство. Но это еще не конец истории. Получается, что греки, изобретая одновременно Науку и демократию, завещали нам проблему, которую до сих пор никто не смог решить. Желать запрета использования новых артикуляционных аппаратов, чтобы учитывать всех нелюдéй, которых мы заставляем говорить самыми различными способами, как раз и будет означать, что мы отказываемся от почтенной традиции и добровольно становимся варварами. Потому что варвар, по определению Аристотеля, – это тот, кто не имеет понятия о представительских ассамблеях или, в силу предрассудков, ограничивает сферу их применения и значимость; тот, кто при помощи неоспоримой власти намерен обойтись без неспешной представительской работы. Меньше всего желая повторить этот опыт, мы, напротив, хотим назвать Цивилизацией• распространение речевой сферы на нелюдéй, чтобы решить наконец проблему представительства, которая делала бессильной демократию практически с момента ее изобретения из-за того, что в качестве ее противовеса была изобретена Наука•.
Мы прекрасно понимаем, в чем заключается сложность: определяя заново затруднения речи•, мы лишаем драматизма первое противопоставление между немым сущим и говорящими субъектами. Вернувшись к гражданской жизни, демобилизованные люди и нелю́ди могут сбросить свои ветхие одежды субъектов и вещей, чтобы вместе участвовать в жизни республики. Однако наш нелегкий труд далек от завершения, так как нам предстоит подвергнуть конверсии другие области этой военной индустрии с тем, чтобы получить более-менее представительных «граждан». Помимо наделения их даром речи, надо привить им способность действовать и собираться в некоторые ассоциации; в следующей главе нам предстоит найти им подходящую корпорацию.
Чтобы понять природу существ, которых нам предстоит собрать воедино, мы в любом случае должны избавиться от противопоставления двух ассамблей. Это единственный способ найти определение совместного занятия экологии и политики. Однако нам могут возразить, что это отнюдь не противоречит тому, что по-прежнему есть «вещи» и «люди» и что мы используем выражения «человек» и «не-человек»: даже если мы переключаем внимание на их общие артикуляционные аппараты, даже если мы, чтобы собрать их вместе, совмещаем процедуры, позаимствованные как из лабораторий, так и из репрезентативных ассамблей, наш взгляд по-прежнему, как в теннисном матче, перемещается от объектов к субъектам. Таким образом, у нас по-прежнему нет общего дела для наук и политики. Пускай каждый занимается своим делом и коровы будут под присмотром, если, конечно, они не заражены бешенством… Мы никогда не сможем поверить, что необходимо было объединить эти два термина, чтобы оценить получившуюся смесь, приготовленную в чудовищном плавильном котле, этого монстра, еще более диковинного, чем речь нелюдéй, представленная нами в предыдущем разделе. Так что же это за общее дело, которым занимаются профессиональные ученые и политики?
Пример с теннисным матчем не так уж и плох. Он ни в коем случае не отсылает к каким-то изолированным областям, которые потом нужно соединять при помощи высшего разума, и не предлагает «преодолеть» при помощи диалектического маневра понятия объекта и субъекта, единственная цель которых состоит в том, чтобы отправлять мяч на другую сторону и постоянно быть начеку. Мы не можем сказать о субъекте ничего такого, что не унизило бы объект, а об объектах ничего, что так или иначе не вызывало бы у субъекта чувство стыда. Если политическая экология отталкивалась бы от этих понятий, то она быстро потонула бы в бесконечной полемике, которая ее постоянно сопровождала. Если бы она попыталась «преодолеть их противоречия» при помощи чудесного синтеза, то она умерла бы еще быстрее, зараженная насилием, которое противно ее характеру (79). Иначе говоря, субъекты и объекты не принадлежат плюриверсуму, метафизику которого нам нужно заново создать: «субъект» и «объект» являются наименованиями, данными двум различным представительским ассамблеям, чтобы они никогда не могли собираться вместе в одном помещении и дать клятву в зале для игры в мяч. Не мы помещаем эти понятия в центр политической дискуссии. Они были там с самого начала. Они были созданы для того, чтобы наводить страх друг на друга. Единственный вопрос заключается в том, можем ли мы положить конец этой взаимной неприязни и построить вокруг них новую общественную жизнь.
Именно этот поворот позволит нам понять огромную разницу между гражданской войной в противопоставлении объект/субъект и сотрудничеством в связке человек/не-человек. Точно так же как определение речи в предыдущем разделе служило не для обозначения кого-то, кто говорит от имени немой вещи, а для затруднений, проблем, целого спектра возможных позиций, глубокой неуверенности, связка человек/не-человек отсылает не к разделению плюриверсума, а к неуверенности, к глубокому сомнению относительно природы действия, к целому спектру позиций по вопросу об испытаниях, которые потребуются для определения природы актора•.
Начнем с очевидности, которую подсказывает нам благоразумие и от которой мы постепенно попробуем отойти. Традиция разделяет, с одной стороны, социального актора, наделенного сознанием, даром речи, волей, замыслами, с другой – вещь, которая зависит от причинной детерминации. Даже если он зачастую обусловлен чем-то, то есть детерминирован, можно сказать, что актора характеризует прежде всего свобода, тогда как вещь всегда зависит от причинных цепочек (80). О вещи нельзя сказать, что она является актором, во всяком случае, не актором социальным, потому что в она в буквальном смысле не действует. Она причинно обусловлена.
Все эти определения вызывают паралич: ее не так-то легко понять, эту политическую экологию. Они обязывают ее слишком рано делать выбор между двумя катастрофическими решениями, каждое из которых возвращается к терминологии двух незаконных ассамблей: натурализация, с одной стороны, социализация – с другой (см. приложение к первой главе). Она либо берет в качестве модели вещь и расширяет ее на всю биосферу, включая человека, чтобы разрешить проблемы планеты, но тогда у нее в распоряжении нет людей, наделенных свободой и волей, чтобы произвести отбор и решить, что нужно и что не нужно делать; или же, наоборот, она распространяет модель воли на все, включая планету, но у нее больше нет чистых фактов, неуязвимых, нечеловеческих, которые позволили бы заставить замолчать множество голосов, выражающих определенную точку зрения и свои интересы. Не нужно думать, будто у политической экологии есть решение, соответствующее золотой середине, которое включало бы в себя немного натурализации и немного социализации, потому что в подобном случае снова потребовалось бы провести границу между фатальной неизбежностью вещей, с одной стороны, и требованиями свободы социальных акторов – с другой. Это предполагало бы, что проблема уже решена, поскольку политическая экология уже знала бы, что представляют собой социальные акторы, чего они хотят, что они могут и чем являются вещи с их причинными связками. Что за чудо необходимо, чтобы она смогла преодолеть эту дихотомию? Откуда у нее это абсолютное знание? Или от природы, или от общества. Но для того чтобы произвести это абсолютное знание, которое устанавливает границу между «вещами» и «людьми», политическая экология должна была заранее сделать выбор между натурализацией и социализацией, между экологией и политикой. Она не может заниматься одновременно и тем и другим, не впадая в противоречие. Именно это и делает ее, начиная с момента ее появления, настолько нестабильной и насильно заставляет метаться между абсолютной властью и настолько же абсолютным бессилием. Однако, с нашей точки зрения, политическая экология сможет избавиться от этого противоречия, если перестанет считать, что она занимается либо «вещами», либо «людьми», либо и теми и другими одновременно.