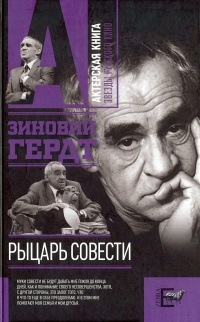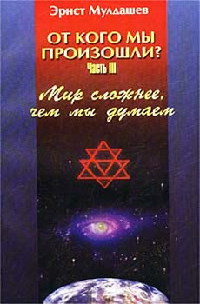Книга Мой Ницше, мой Фрейд... - Лу Саломе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Подверженность тела болезням уже с ранних лет неимоверно усложняла спокойное ожидание часов творческой продуктивности; такого рода ожидание непросто изнуряло тело, оно провоцировало его на истерические реакции. То есть вместо постепенного созревания готовности к творческому труду в нем обострялась повышенная телесная чувствительность, раздражительность, вызывая боль и даже приступы, втягивая в болезненное состояние весь организм.
Иногда в шутку, но чаще с отчаянием и досадой Райнер называл это «ложной творческой активностью», а свое тело – «обезьяной духа». Физические недуги влекли за собой недуги душевные; например, когда его что-нибудь неудержимо отвлекало, вынуждало забывать о том, что он должен жить своей подлинной жизнью, а потом – или уже в процессе этих увлечений – он осознавал их как «обезьянничанье». Болезненнее всего это воспринималось тогда, когда речь шла о настоящих подарках судьбы, когда его окружали вниманием, добротой, обожанием, дружбой, что в изобилии выпадало на его долю. Тогда он горько жаловался, что подлинный Райнер в нем воспринимал это только как некий дурман, как отвлечение, как обманчивую тягу к наслаждению и бесполезной трате сил, а не к благословенному участию в деятельной жизни его сокровеннейшего ядра.
На мой взгляд, сюда же относятся и занятия оккультными, спиритическими вещами, которым иногда предавался Райнер, сверхчувственными толкованиями снов, которые он затем возводил к образам такой полноты значения и знания, с какой его неизбывная тоска тщилась идентифицировать его самого. В благополучные времена он отзывался обо всем этом резко отрицательно, даже со злостью.
Больше всего меня потрясало, что и тогда, когда он для своих учеников – учеников в буквальном смысле слова – становился наставником и другом, кое-что от терзавшего его подражания оставляло след и в нем самом. Он не просто казался наставником и помощником, он был им, но одновременно с непоколебимой уверенностью воспринимал свое поведение как проекцию того, к чему он сам тщетно стремился в глубине души. Тогда эта мучившая его тоска становилась навязчивой; точно так же как его давняя мечта стать «деревенским врачом» и помогать больным и бедным подкреплялась желанием предвосхитить, сделать наглядным свое собственное исцеление, прежде чем самому поверить в чего.
В раздвоении между воспринимаемым как милость священным даром творчества и подражающей ему, «дразнящей» его необходимостью демонстрировать наличие этого дара и таится, собственно, злой рок Райнера. Его нельзя путать со схожим безобидным поведением людей высокой этической требовательности и моральной добропорядочности, когда в часы слабости они предаются мнимым легким порокам, чтобы потом осудить себя за них; все это остается на уровне ухудшения или улучшения их душевного инвентаря. У Райнера это исполнено такой беспощадной серьезности, что выходит за пределы этики, – если допустить, что ее заповеди и запреты выходят за рамки учения о предопределении. Самое ужасное в неотвратимости судьбы Райнера заключалось в том, что она даже не давала ему возможности раскаяния. То, что вдохновляло его на творческие свершения или принимало в свои тихие хранительные глубины, было в той же мере навязчиво-судьбоносным, как и то, что толкало его к ложной активности или к пустоте пассивного расслабления. Он уже в юности находил объяснение этому обстоятельству в том, что он такой, какой есть, что характер его сложился «еще до рождения» и с самого начала был наделен всеми теми изъянами, которые вопреки отчаянному сопротивлению Райнера постоянно побуждали его заново оценивать себя. В наибольшей мере эти качества были присущи его матери. Самые резкие слова об этом мучившем его всю жизнь обстоятельстве он находит в письме от 15 апреля 1904 года, после одного из становившихся все более редкими свиданий со мной. В этом письме ко мне он пишет: «Моя мать приехала в Рим и все еще находится здесь. Я вижу ее только изредка, но – ты это знаешь – каждая встреча с ней вызывает шквал воспоминаний. Когда я вижу эту одинокую, утратившую связь с реальностью женщину, которая никак не может состариться, я вспоминаю, как еще ребенком старался убежать от нее подальше, и с глубоким страхом чувствую, что после многих лет мне так и не удалось уйти от нее на достаточное расстояние, что где-то внутри меня все еще живут жесты, являющиеся второй половиной ее чахлого образа жизни, обрывки разрозненных воспоминаний, которые она носит в себе; тогда я и ужасе от ее рассеянной набожности, от ее своенравной веры, от всех этих искажений и извращений, с которыми она связала свою жизнь, сама пустая, как платье, призрачная и жуткая. Вспоминаю, что я все же ее дитя; что в этой ни с чем не связанной, выцветшей стене какая-то едва заметная, оклеенная обоями дверь послужила мне входом в этот мир (если такого рода вход вообще может ввести в мир…)!».
Каким бы безмерно личным делом это ни представлялось, оно все же не должно восприниматься как абсолютно личное, ибо именно насилие утрированием возводит смысл суждения в область сверхличного, почти мистического, от чего Райнер старался избавиться. Когда однажды, годы спустя, мы встретились втроем в Париже, Райнер потом никак не мог понять, почему его мать не вызвала во мне с первого взгляда отвращения, а показалась всего лишь изрядно сентиментальной. В его отвращении присутствовало отчаяние, вызванное тем, что он был вынужден видеть в ней свое собственное злорадно искаженное отражение: в своем религиозном чувстве – суеверие и ханжество, в творческом воодушевлении – тщеславную сентиментальность; любое его неприятие характера матери лишь в очень слабой степени отражает ту смертную тоску, с какой он не принимал его признаков в себе самом, когда самое сокровенное и благословенное в нем, точно призрачная оболочка, напоминало, что она и есть он сам – извечное материнское лоно, рождающее пустоту…
Когда я представляю себе людей со стихами Райнера в руках – не таких, что лениво глазеют на них, как иные глазеют на картины в музее, – меня пронзает мысль о том, какое побуждение в них воплощено: побуждение к сотворчеству и совместной радости. Мне кажется, что и они, глубоко сопереживающие, не могут не воздать должное жизни, беды и борения которой вылились в это великолепие, ожившее в душе. Более того, можно утверждать, что художник сам в них воздает должное всем пережитым им несчастьям: не подлежит сомнению, что торжество элегий было для него праздничным утверждением своего отчаяния. Тайна в том, что его концепция искусства не отрицает взаимосвязи с ужасным и прекрасным. То, что происходит за непроницаемой завесой, происходит под знаком призыва, прозвучавшего еще в «Часослове»:
Пусть будет все: и красота, и ужас!
Кто видел, как это происходит, тому глубоко в душу запало знание о неизбывности пронзительного одиночества Райнера, которое лишь на горных вершинах только на мгновение щадящим жестом закрывало ему глаза, чтобы он не видел пропасти, в которую прыгал. Кто видел, как это происходит, тот не пытался вмешиваться. А лишь взирал – бессильно и благоговейно.
Апрель, наш месяц, Райнер, – месяц, предшествовавший тому, что свел нас вместе. Я много думаю о тебе, и это не случайно. Ведь в нем, в апреле, заключены все четыре времени года, с его по-зимнему леденящим воздухом и жарким сиянием солнца, с его напоминающими осень бурями, которые покрывают влажную землю не блеклыми листьями, а шелухой бесчисленных лопнувших почек, – разве в этой земле в любой час не таится весна, о которой узнаешь еще до того, как ее увидишь? И прежде всего та тишина и самоочевидность, которые соединили нас как нечто, что существовало всегда.