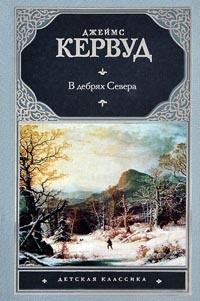Книга Ошибка Перикла - Иван Аврамов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Хотел того Павсаний или нет, а невольно порадел Афинам. Не правда ли, этот город сейчас здорово напоминает расфуфыренную бабу, которая нацепила на себя все свои побрякушки? — Никомед от негодования затрясся всем своим сухоньким жилистым телом.
— Не чересчур ли ты, Никомед, резок? — осторожно возразил Архидам, который благоразумием и выдержанностью определенно напоминал знаменитого афинянина Перикла. — Может, Аттика и ударилась в крайность, беспрестанно что-то строя и украшая. Но ведь, если по правде, вся Эллада сейчас завидует красоте и величию Афин, могущество которых надежно охраняют «Длинные стены».
— Беда не в том, что они превратили Акрополь в красивую игрушку, — недобро сузил карие, с неутраченным молодым блеском глаза суровый Сфенелаид. — Сдается мне, что афиняне, которых Эфиальт[116]напоил «несмешанным вином свободы», не протрезвели до сих пор. Они возомнили себя пупом Эллады, и как раз в этом я усматриваю прямую угрозу для Спарты. Как бы не защищали их «Длинные стены», но короткие мечи лакедемонян достанут кого угодно.
— Ты думаешь, уважаемый Сфенелаид, войны не избежать? — Архидам, весь подобравшись, даже привстал на локте, а свободной рукой непроизвольно потянулся к рукоятке меча.
— Скорее всего — да, — ответил эфор, от которого не ускользнул порыв царя. — Но меч пока оставь в покое — наш тридцатилетний мир с Афинами пока еще продолжается. Ксантиппов сын, конечно, мудр и умен, но он стремится прибрать к своим рукам всю Грецию. Аппетиты его растут не по дням, а по часам. Ему мало союзников на востоке Эллады, подавай их еще и на западе. Потидея,[117]которую афиняне насильно сделали данником, что мочи вопит: «Не хочу быть в вашем союзе!», и правильно делает: это город, основанный коринфянами, заклятыми «друзьями» Афин. В ответ на это Перикл приказывает потидейцам срыть южные стены, требует заложников, настаивает на том, чтобы эпидемиурги[118]были высланы, наконец, осаждает непокорный город. Согласись, царь, озлобленность коринфян, достигшую предела, понять не так уж трудно. Ведь Потидее предшествовала Керкира, где и не поймешь, кто над кем взял верх.[119]
— Выпьем, — предложил Архидам и ударил рукояткой кинжала по серебряной чаше… Вошедший слуга наполнил килики красным хиосским, которое, даже разбавленное водой, оставалось таким же густым и тягучим. Никомед степенно поднес ко рту ложку с похлебкой, Сфенелаид закусил ломтиком сыра, а царь острием кинжала подцепил кусок кабаньего мяса. Ели в полной тишине. Потом снова заговорил Сфенелаид.
— Спарта долго закрывала глаза на проделки Афин. Но, пожалуй, хватит держать лисенка за пазухой.[120]Играться с Лакедемоном все равно что стричь льва. Жаль, афиняне этого не понимают. Можно еще закрыть глаза на Потидею. Но Мегара… Если Перикл не отменит своего постановления по Мегаре, которую обрекают на голодную смерть, если не снимет запрет на торговлю со своими союзниками, если не откроет свои гавани для ее судов, мы будем вынуждены нарушить мир.
— А какой ничтожный повод заставил этого надменного стратега накинуть удавку на мегарян! — На лице Никомеда появилась саркастическая усмешка: — Они, видите ли, прячут у себя нескольких грязных потаскух, похищенных из притона, коим заправляет прожженная шлюха Аспасия. Афиняне смирились, что Луковицеголовый, не стесняясь, называет ее своей женой. Как же низко пал этот развращенный город!
— Хотя Перикл мой гостеприимец, с его Аспасией я не знаком, — заметил царь. — Но молва утверждает, что это необыкновенно умная и красивая женщина.
— Та же молва глаголет, что эта гетера избрала себе примером, достойным для подражания, Таргелию.[121]Что ж, она даже переплюнула Таргелию, если сделала своей покорной игрушкой первого стратега Афин. О, царь, ум и развращенность вовсе не исключают друг друга.
— Позволю себе продолжить твою мысль, почтенный Никомед, — с некоторым лукавством произнес Архидам. — Развращенность умов и нравов, без которой Афины уже не Афины, никак не мешает их возвышению. Величие Афин, если откровенно, раздражает нас и даже… страшит. Разве не так?
Никомед, желая возразить, вскинулся было, но все же промолчал. Зато Сфенелаиду не изменила его привычная жесткость.
— Возможно, царь, ты недалек от истины. Ни один греческий полис сейчас не располагает таким богатством, как Афины. Но если золото ослепляет алчных афинян, заставляя уверовать, что они всесильны, то у спартиатов это их золото вызывает лишь презрительную усмешку. Они отделывают свои жилища пентеликонским мрамором, мы рубим наши дома с помощью топора и пилы, как и завещал нам великий Ликург. Он был прав — грубо построенные дома отбивают охоту к роскоши. Потому нам нет никакой необходимости украшать жилища утонченными статуями. А стрелы, о, царь, мы делаем не из золота, а из железа. Из него же куем и мечи…
Наверное, Сфенелаид продолжил бы свою речь, если бы на пороге не выросла фигура начальника царской стражи Леонта.
— Прости, царь, за вторжение, но меня попросили сообщить великим эфорам — в Спарту прибыл гонец из Коринфа. Он говорит, что через два дня здесь будут послы коринфян.
Все трое многозначительно переглянулись.
Сострат, кряхтя под сильными, не знающими устали руками раба, и блаженно ощущая, как приятно начинает гореть кожа и каждая клеточка его тела полнится легкостью, думал, что он не прогадал, отвалив за этого фригийца кучу денег — целых восемьдесят драхм. Из тех трех рабов, которыми он обзавелся за последний год, этот, как и пророчил ему продавец — старый моряк из Пирея, оказался наиболее ценным. Сострат оберегал его, справедливо полагая, что с черной работой вполне справятся остальные двое.