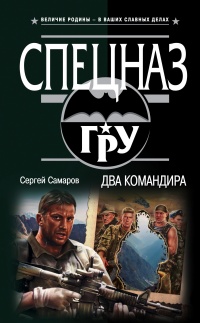Книга Первый к бою готов! - Сергей Самаров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
...Ждал ли я свидания? Я ждал его, рук маминых хотел, тепла ладоней, которое из раннего детства помню, и боялся... Боялся, потому что слишком хорошо знал свою маму нынешнюю. Мне всегда было обидно и нестерпимо стыдно, когда над ней смеялись. И представлять, что сейчас над ней будут смеяться враги, было для меня невыносимо. Мои личные враги... Уже не просто враги мои как солдата, а враги мои, Стаса, простого русского парня из сельской глубинки... Враги, которых я никогда, до конца дней своих не смогу простить... Я бы простил избиения, я бы простил издевательство над собой. Но не смог бы простить издевательства над мамой... Но все зависело от того, сумеет ли она взять себя в руки...
Она не сумела... И мне было стыдно... Стыдно даже перед другими пленными, перед капитаном Петровым стыдно, перед другими матерями стыдно... Только перед чеченами – не стыдно... Я их ненавидел, а когда ненавидишь кого-то, стыд становится гораздо слабее этого чувства, настолько слабее, что он почти незаметен...
Нас всех вывели во двор СИЗО, не предупредив, для чего выводят. Или новое обвинение предъявлять – уже всем вместе, или снова иностранным журналюгам показывать будут... Но теплилась надежда, самая слабая из всех ожиданий, что это будет все же обещанное свидание с родителями... Это оказалось так...
Из всех только к двоим приехали отцы. К остальным матери. И ко мне тоже – мама...
Все матери шли к сыновьям, руки протянув, чтобы скорее обнять, прощупать, убедиться, что сын еще жив, хотя и не здоров. Мою маму вели под руки два охранника с ухмыляющимися физиономиями. Она была пьяна до такой степени, что идти не могла. Охранники подвели маму и мне на руки грубо бросили. Еле я ухватить ее успел, чтобы не упала...
– Что же ты делаешь... – сказал я.
– Это они... – у мамы сил не было, чтобы показать, но я понял, что чечены ее напоили специально, чтобы и ее, и меня унизить. Они по лицу мамы определили пьющего человека, человека, не способного отказаться от выпивки... И постарались... А у меня голова горела от стыда, и покрытое коростой лицо, кажется, покраснело, как помидор...
На нас смотрели... Другие матери, вместо своих сыновей, на нас смотрели... Чечены, ухмыляясь, на нас смотрели... Для них мама была сейчас олицетворением русского народа...
У меня возникла было мысль оттолкнуть маму на тех же охранников, с которыми она пила. Сказать что-то резкое, как я сказал бы ей дома, на гражданке... Но охранники отошли в сторону, и я видел лица чечен, я видел, что они от меня ждут именно этого, я видел лицо телекамеры какого-то специально приглашенного иностранного корреспондента... Они все ждали именно этого... И тогда я маму просто обнял, к себе прижал, превозмогая свою брезгливость и чувствуя к ней и к себе самому нестерпимую жалость. Обнял ее и тихо прошептал:
– Мама... Не позволяй им смеяться над собой... Надо мной... Мама... Они – враги... Они надо мной издеваются... А ты с ними пьешь...
Она подняла голову и, кажется, только сейчас увидела мое хронически избитое лицо. И вдруг взбодрилась, найдя в себе силы, встрепенулась, и в глазах ее огонь загорелся. Холодный злой и желтый огонь, такой же, как у меня. Она на время волчицей стала, той Раткой-Дьявол из сказки Киплинга про Маугли, той самой Раткой-Дьявол, которая только своим видом и своей решительностью тигра Шер-Хана испугала...
– Я им сейчас все хари раздеру... – сказала она и попыталась вырваться из моих объятий.
И шарахнулся в сторону от ее взгляда оператор с телекамерой, попятился приблизившийся было охранник...
У меня хватило силы не выпустить ее, хотя она вдруг стала очень сильной и неуступчивой...
– Успокойся, мама, это уже мое дело... – прошептал я ей в самое ухо. – Придет мое время, я им души раздеру... Они у меня долго плакать будут...
– Мне деньги на дорогу всем районом собирали... Много набрали... Каждый день ездить можно... А нас бесплатно везли... Тебе денег надо? – вдруг, заплакав, перешла мама совсем на другую тему.
– Нам здесь деньги не нужны... В камерах магазинов нет...
– А отец совсем плох, не ходит... – она никак не могла с мыслями собраться и не знала, что говорить.
Плакала и говорила, каждый раз о разном...
* * *
...Двадцать минут... Это максимум, что позволили чечены. Двадцать минут, чтобы снова пробудить в нас чувства, вернуть на двадцать минут к жизни и потом снова что-то придумать, чтобы нас «уронить»... Когда свидание закончилось, охранники, что привели маму, не подошли. И глаз камеры оператора был наведен на нас. Они ждали, что мама упадет, что она поползет. Они ждали очередного унижения русского человека, простой русской деревенской бабы...
– Все на тебя смотрят. Иностранцы снимают... – сказал я, ничуть не стесняясь, что нас слышат. – Иди прямо... И наплюй на них... Я выживу... И вернусь... Только ты меня поддержи... Только веди себя достойно, мама... Не убивай меня...
И она пошла прямо. Она никогда в жизни так прямо и ровно не ходила. Это была совсем не ее обычная деревенская походка, походка обыкновенной женщины-колхозницы, привычной к кирзовым сапогам, которые скользят по грязи нашей улицы... Она гордо шла. И уже у выхода даже обернулась и рукой мне махнула:
– Держись, сынок... Мы с отцом ждем тебя...
Потом, через несколько лет, я и это свидание понял... Чечены пугали наших матерей, и пугали других матерей... Они таким образом нашу армию ослабляли... На нашем горестном примере... Пугали, чтобы другим неповадно было... И именно для этого нас так старательно били, так сладострастно уродовали...
* * *
...Потом вскоре нас все же обменяли всех, кроме капитана Дмитриенко, которого все еще подозревали в том, что он является офицером ФСБ, только капитана Петрова и лейтенанта Угарова положили в госпиталь. Солдатам дали месячный отпуск. Не десятидневный, не считая дороги, как полагается солдату, а месячный... Я приехал домой и почти не видел маму... Вернее, я-то ее видел. Это она меня не видела... Она пила, и ей даже самогонку приносили домой... Все та же соседка тетка Валентина... Отец тоже пил, смотрел и без того мрачным взглядом и безвылазно сидел за столом, выкуривая пачку «Беломора» за пачкой...
Родители пропивали деньги, которые всем районом собирали им на поездку к сыну в Чечню... Небывало большие для них деньги...
Ни отец, ни мать не смогли проводить меня, когда я уезжал... Уезжал назад, в Моздок, где стояла наша бригада. «Наверное, всех остальных провожают», – мелькнула обидная мысль... Тогда я еще не знал, что провожали одного Толика Волка...
Из всех бывших пленников-солдат на место службы вернулось только два деревенских парня – я и Волк. Остальные были городскими... И матери не пустили их на войну, всеми правдами и неправдами спрятав от работников военкомата и военной прокуратуры... Матери посчитали, что лучше иметь сына дезертира, чем мертвого сына...
* * *
Анжелина во сне дышала ровно. И я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить ее сон. А потом и сам незаметно уснул, но и сны мне снились тревожные, беспокоящие, рваные. И проснулся я оттого, что Анжелина убирала со своего плеча мою руку. Не знаю, как я руку на нее положил... Наверное, во сне...