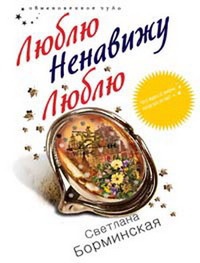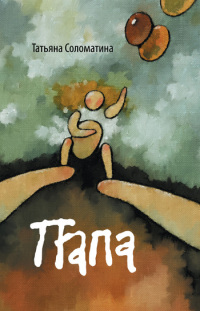Книга Горовиц и мой папа - Алексис Салатко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1945-м Штернберг с несколькими сотнями выживших жертв Холокоста, в свою очередь, прибыл в Америку. Его приняла группа волонтеров, взявших на себя помощь беженцам. Среди них оказалась женщина, американка польского происхождения, муж ее был родом из Киева, он отдал жизнь за спасение Европы. Фамилия этой женщины была Радзанова.
Выяснилось, что после того, как Горовиц прогнал его, Федор пошел служить в американскую армию, а всего за месяц до вступления США в войну женился на сестре своего товарища-поляка.
Моему дяде высадка американских войск во Франции казалась вожделенной возможностью увидеться с братом, который жил в Шату, однако, к несчастью, всех надежд день «Д» оправдать не смог. Федор Радзанов пал за Францию 6 июня 1944 года.
Узнав обо всем этом, потрясенный Штернберг тут же написал Димитрию и вложил вместе с письмом в конверт этот трогательный снимок, чтобы доказать: он не бредит, это не выдумки человека, потерявшего рассудок в Аушвице-Биркенау.
Боже ты мой, наконец-то я понял, почему отец так легко согласился отправиться со мной в Нью-Йорк. Вовсе не ради Горовица! Просто он надеялся встретить свою невестку и племянника: ко всему еще, я узнал, что у меня есть двоюродный брат, который родился в июле 1944 года и которого зовут Игорь.
Но и тут не повезло: напоследок Штернберг сообщил, что вдова Федора снова вышла замуж и живет теперь в Австралии…
Через несколько часов мы уже были в самолете. Этих нескольких часов как раз хватило на паломничество в Сохо — туда, где жил мой умерший, воскресший и снова умерший дядя. Мальчишки скользили по ледянкам, вытянувшимся на тротуаре вдоль суровых фасадов Грин-стрит, и папа вспомнил, как они с братом сломя голову мчались на стареньких санках вниз по Алексеевской улице в Киеве. Федор сажал его себе на плечи — и продолжал тащить на себе в течение всех лет разлуки, хотя их и разделял океан. Я был оглушен этой безумной, но правдивой историей. Почему папа держал ее в секрете? Он признался, что в письме Штернберг сказал не все — папа надеялся увидеть Федора живым и сделать мне сюрприз. У него всегда было чувство, будто есть что-то, что его подталкивает вперед, ну, как бывает с ампутированной ногой, которую ощущаешь как живую. И даже теперь в глубине души у него сохранилась уверенность, что старший брат вовсе не лежит под белым крестом, одним из многих тысяч на скалах Нормандии — нет, он верит, что Федор снова сумел уцелеть, и в одно прекрасное утро они смогут наконец-то обнять друг друга. Вот только под ногами Мити лед уже пошел трещинами, и Федору, коли он жив, придется очень сильно разогнать свои санки, если хочет успеть добраться вовремя.
Штернберг довез нас до аэропорта в своем служебном автомобиле. Он работал в самой большой нью-йоркской прачечной, и в его обязанности входило мотаться челноком между Верхним Ист-Сайдом и доками, где он выгружал грязное белье с пассажирских судов. По воскресеньям он пел в хоре православного храма Святого Николая Чудотворца. Папа вынул из пачки сигарету, поднес к губам, стал нашаривать в кармане спички. Штернберг в это время рассказывал, что его освободила Красная Армия: солдатики, которым едва исполнилось семнадцать, они могли быть детьми тех, кто и его, и папу, и многих других выгнал в 20-х годах из России. Они протягивали ему папиросы, угощали шоколадом, просили улыбнуться в камеру, чтобы увековечить эту минуту. Папа с досады выбросил в окно и сигарету и пачку. Мы сидели втроем на переднем сиденье, я — в середине, между двумя заклейменными каленым железом судьбами. В зеркале заднего вида в последний раз перед нами пламенели окна небоскребов Манхэттена.
Из-за тумана самолет оторвался от земли с опозданием на три четверти часа. Папу свалил крепкий коктейль, замешанный на усталости, боли, волнении. Стюардесса раздала черные повязки — для сна. Папа взял одну и сразу же прикрыл ею глаза. От этого зрелища мне стало совсем нехорошо: уж слишком он стал похож на смертника, привязанного к столбу в ожидании казни. Папа согласился принять таблетку снотворного, но взял с меня честное слово разбудить его, когда самолет окажется над местами, где была высадка войск. Он тщательно изучил план полета и ни за что на свете не хотел пропустить восход солнца на мысу, где погиб брат.
Прежде чем покинуть Нью-Йорк, я накупил газет с отчетами о юбилее Горовица.
— Хочешь посмотреть, как это было?
— Что было?
— Концерт!
— Не хочу.
— Он железно играл!
— Да? Зато здоровье не железное! — сказал папа и провалился в сон.
Между небом и землей я вновь увидел гнусный кошмар, который преследовал меня со времен войны. Димитрий стоит на коленях перед офицером с фарфоровыми глазами, тот вынимает из кобуры револьвер, высыпает все пули, кроме одной, крутит барабан и с садистской улыбкой протягивает мне оружие. Фашист приказывает мне сыграть с папой в русскую рулетку. Если откажусь, они сделают с нами то же, что с собакой Штернбергов. Каждый раз, как я нажимаю на спусковой крючок, папа называет одну из нот гаммы. До… Ре… Ми… Фа… Я вздрагиваю и просыпаюсь. Пот струится по моим вискам. Папа по-прежнему спит, привалившись ко мне. Я поправляю его одеяло. На меня океанским приливом накатывает сумасшедшая любовь к этому упрямому ослу.
Папы не стало вскоре после нашего возвращения из Нью-Йорка. Его последние дни не были ни горькими, ни печальными, наоборот, их освещала надежда на возвращение брата из царства теней. Он ожидал почтальона с таким же нетерпением, с каким мальчишка ждет Деда Мороза.
— Нет, сегодня для вас опять ничего, месье Радзанов, — говорил почтальон. — Но ведь, знаете, почта в наше время так часто запаздывает…
Всякий раз, как я вспоминаю фигуру папы в халате за стеклами эркера гостиной, мне видится картина Эдварда Мунка. Папа бросил курить — в память о мадам Штернберг, а кроме того, ему не хотелось, чтобы я заранее разочаровался в будущих пациентах. Не могут же все быть такими же упертыми, как он сам! — увы, эта хорошая мысль пришла к нему слишком поздно… Он еще успел порадоваться тому, как хорошо я сдал экзамены по специальности, а я не рассказывал, какая в действительности жестокая схватка происходит в моем сознании, как мне хочется бросить учебу — трудно учиться, если тебя так подтачивает бессилие перед болезнью отца. Конечно, отказ от театра был для меня страшным горем, но разве хватило бы у меня духу каждый вечер подниматься на сцену? Нет, я предпочел бы оставаться в тени, «играть в доктора» с людьми, поневоле вовлеченными в мою игру, играть, зная, что нет никакого лекарства от старости и нет никакого лекарства от немощи. Можно сделать так, чтобы стало полегче (немножко), можно задержать (чуть-чуть) их наступление, но победить — никогда.
Он больше не притрагивался к клавишам — не потому, что страсть к музыке угасла, а потому, что изуродованные болезнью пальцы уже не могли выдержать бешеного ритма. Зато он очень часто слушал музыку, меняя пластинки на своем стареньком проигрывателе. Папа запретил мне покупать новый — современность войдет в этот дом, когда он выйдет из него… вперед ногами.