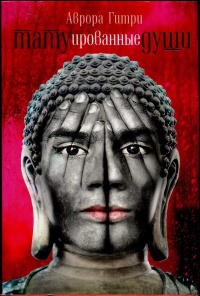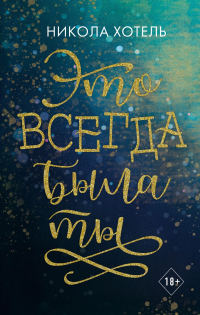Книга Откровенность за откровенность - Поль Констан
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Глория набрала номер родителей мужа и, пока трубка заливалась гудками, посмотрела на часы: четверть десятого, они наверняка уже ушли в церковь. Но Кристел проснулась.
— Ну? — отозвалась она.
— Это ты, моя милая, зайка моя сладкая, красавица моя, бутончик мой апельсиновый, — замурлыкала Глория.
— Погоди, я позову папу, — перебила ее Кристел. Ждать снова пришлось долго, Глория уже начала терять терпение.
— Вы там что, спали? — спросила она Механика, услышала в ответ, что они действительно вчера поздно легли, и начался удручающе банальный диалог: как прошел симпозиум, как они погуляли потом женской компанией. Она говорила и чувствовала спиной недобрый взгляд Бабетты, оценившей, надо думать, все убожество этого недоразумения, которое Глория упорно именовала: муж, ребенок, семья. Глория вся съежилась над телефоном, никак не получалось вернуть немного их близости, хотя бы сказать Механику, что она по нему скучает, и тут вошла Лола Доль, такая, несмотря ни на что, красивая, что сердце Глории устремилось к ней. Ей захотелось бросить трубку, оборвав на полуслове Механика, который теперь все тем же тоном постороннего рассказывал, как вчера они с Кристел смотрели вестерн, хрустя поп-корном: вот здорово было! Скажи маме.
Лола Доль окинула взглядом кухню. Ей вспомнилась другая — в доме, где прошло ее детство. Она любила запахи дерева и горячего кофе. Это было почти блаженство, она даже потянулась и зевнула. На севере долгая зима длит детство, окутывает его снежным коконом, укрывает большим белым одеялом и запечатлевает счастье мерцающими письменами на оконных стеклах. А для Лолы зима была еще и красным чревом театра «Густав-Доль», тесной, как цыганская кибитка, уборной ее матери, куда актрисы труппы приходили, закутанные до бровей, в шарфах, в теплых шапках, и постепенно раздевались, согреваясь чаем.
Среди вороха одежек они говорили о любви. Слова, точно морские волны, накатывали на нескончаемый песчаный берег смеха, а порой вздымались и пенились гневом. Женщины любили поболтать, как прачки у пруда. На языке у них вертелись извечные мерзости, их излияния питались с незапамятных времен незатухающей распрей. Хлопала дверь, актрисы умолкали, и слышался голос отца, проверявшего, все ли в порядке на сцене: отец разговаривал сам с собой в пустом театре. Голос отца проговаривал тексты, заливался тирадами.
А лето означало катер и острова, охапки цветов, одинокое деревце на ветру. С приходом солнца она видела мать утренней — молодой, нагой, белокурой, а отца с книгой в саду, спиной к ним, чтобы их не слышать. Лола читала наизусть отрывки из пьес, которые они играли зимой — она запоминала их, сама того не сознавая. Они спрашивали, кого бы она хотела сыграть на сцене: королеву в роскошном наряде, но не произносящую ни слова, или нищенку в лохмотьях, которой в пьесе принадлежит центральная роль. Я выбираю королеву, отвечала Лола.
Она впервые переспала с мужчиной в тринадцать лет — а ему было тридцать семь. Лола запомнила возраст любовника, потому что ее отец, которому тогда уже перевалило за пятьдесят, именно тридцать семь считал для женщин началом увядания, а для мужчин — лучшей порой. Сравнения отца, если перевести их на французский, были из области виноделия: выдержка, крепость, букет. Если так, то она отведала коллекционную марку. Тогда был день такой же, как сегодня, теплый и полный трепета новой жизни. Казалось, было слышно, как распускаются листочки, как лопаются почки под их напором, как раскрываются цветы до самой сердцевины, до влажного пестика, и шмели вязли в них, отяжелев от пыльцы, а тучи мошек окружали широкими шелестящими венцами или идеально ровными золотистыми нимбами головы гуляющих.
Это была первая в году морская прогулка: родители со всей труппой устроили пикник на острове. На самом же деле пикник был западнёй, которую расставили актрисы, чтобы свести мамину дублершу с тридцатисемилетним холостяком. На счету этой вечно неудовлетворенной женщины было много романов и столько же разочарований. Лола не любила ее: мало того, что она завладевала вниманием матери, так еще и ее, Лолу, заставляли делать для нее такие вещи, что с души воротило. Приходилось, например, натирать ей спину, ляжки и икры кремом для загара, а еще — надевать ее старые купальники, потому что этой женщине доставляло какое-то извращенное удовольствие видеть свои вещи на большой красивой девочке и убеждаться, что ее собственное тело еще сохранило подростковые формы.
По разработанному заранее сценарию события должны были развиваться следующим образом: подготовив почву, Дублерша будто бы обидится или рассердится и, покинув компанию, убежит в глубь острова, а все пойдут ее искать, но устроят так, чтобы именно Холостяк первым нашел ее, утешил и, после того как они вместе побывают на седьмом небе, привел к шести часам на катер. Но вышло иначе: Дублерша на самом деле потерялась; а Холостяк, свернул не в ту сторону и вышел на берег; там, продолжая поиски в бухточках среди скал и на маленьких пляжах, он наткнулся на Лолу, не посвященную в тонкости великого сексуального заговора, — она собирала майский мох, который почему-то цветет только в июне.
Они пошли вдвоем по тропинке между скал. Ему было неудобно идти в узком купальном трико до пояса — точь-в-точь как у Берта Ланкастера, — и он взял ее за руку. Ветер развевал ее распущенные волосы, они касались его щеки, порой окутывали все лицо, и он говорил ей, что они мягкие и хорошо пахнут. У кромки воды он поцеловал ее. Ей вздумалось подбить его искупаться, и она стянула свитер. Холостяк изменился в лице, она решила, что от восхищения: вода ведь была очень холодная, — и это прибавило ей смелости. Теперь-то она непременно нырнет, пусть даже выйдет вся синяя.
Но он не пустил ее в воду, удержал, крепко прижав к себе, а она стала брыкаться, несильно, для виду, и, брыкаясь, всем телом почувствовала его тело, его грудь, руки, живот, шею и подбородок, его ноги, губы, бедра, член, спину и ягодицы. Он был тяжелый, сильный; когда Лола кончала, ей показалось, будто она медленно падает в глубокую, уходящую куда-то в недра земли пещеру, а наслаждение длилось, увлекая ее, как обвал, все дальше и дальше, но она знала, что он не отпустит ее и выведет на поверхность и поэтому можно заглянуть в эти глубины до самого дна.
Только потом он спросил, сколько ей лет. Двенадцать с половиной. Лола скостила полгода, чтобы он оценил, какая она развитая. Он сказал, что это неправда, что ей не может быть двенадцать с половиной, и в общем-то был прав. — Ладно, сдаюсь, ответила она, я тебя надула, мне тринадцать. — Неправда, взмолился он, надеясь, что она накинет еще пол года, потом еще полгода и в конце концов окажется совершеннолетней. Пятнадцать, ну пожалуйста, хотя бы четырнадцать, и он оттирал ладонью кровь, стекавшую по ее ноге.
Так они торговались, уже не в ладу, почти враги, она уперлась на своих тринадцати — и ни в какую, он домогался шестнадцати, и тут появилась Дублерша. Разъяренная — сколько можно ждать! — она сама искала того, кто должен был найти ее, бегала за тем, кому полагалось бегать за ней. Она спустила на них собак, поняв, что случай проморгала и не успеет даже поцеловаться с Холостяком. Ступай вперед, приказала она Лоле злобно-властным тоном женщины на грани срыва, скажи, что мы сейчас придем. Лола ушла, медленно, нехотя, ей не нравилось, что они остаются вдвоем, так свежо еще было в ней сказочное ощущение, что мурашки бегали по пояснице, по спине, между плеч. Все время хотелось запрокинуть голову, чтобы волосы пощекотали ягодицы и ляжки.