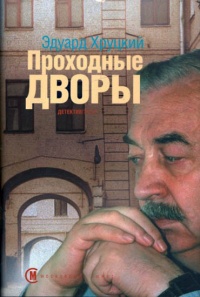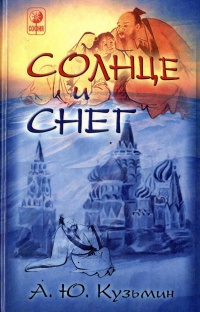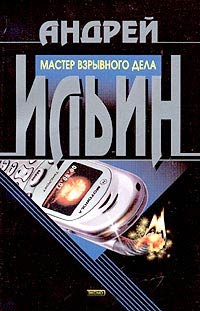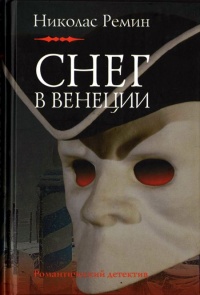Книга Господа офицеры - Андрей Ильин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А было так...
Отпросил Лопухин Карла на две недели в свое имение, что под Рязанью, куда сам поехал да дочерей своих свез. Сам-то по деревням поехал, а дочерям велел в имении безвылазно сидеть да зело прилежно языки учить. Да только неохота их учить — на дворе жара стоит, травы пряно пахнут, птички щебечут, в окна солнышко светит, на реке ребетня гомонит, плещется, да так, что отсель слышно. Невмоготу в доме сидеть, хочется во двор выйти, на реку да в лес.
Стали в саду в беседке, плющом увитой, заниматься. А в беседке — какой пригляд?... Карл слова иноземные говорит, а сам глаз с Анисьи не сводит, все норовит ее за ручку взять да притиснуться поближе. Сестры ее на них косятся, шушукаются да хихикают.
Позубрят ученицы слова, сомлеют от жары да начнут Карла с толку сбивать, уговаривая по аллеям погулять. Как им откажешь? Соберутся тихонечко и айда в сад.
Там дубы вековые, липы да акации. Бродят они по тропкам, болтают, Карл им про жизнь иноземную рассказывает, да уж не только про то, что сам видел, а про то, что слышал. А то в жмурки играть зачнут — глаза повяжут и станут друг дружку руками ловить да друг от дружки уворачиваться. Хохочут... Али прятаться станут — скроются в кусты, затаятся, сидят ни живы ни мертвы. Сестриц тех Карл долго искал, а вот Анисью-то сразу находил — уж больно недалече она пряталась! Сыщет ее в укромном месте, да не кричит, а присядет рядышком и по голове гладит да по шее. Анисья дышит тяжко и глазки за веки заворачивает. Шибко ей это нравится. А то сама начнет Карла гладить. Ведь не видит их никто!
И совсем себя Карл помнить перестал — и лямку свою солдатскую, и уставы с артикулами, будто в детство обратно попал.
Раз подбили его сестрицы на реку пойти, куда батюшка с матушкой им настрого ходить заказывали, — но уж больно охота. Пришли. Жарко!... Травы сохнут, кузнечики стрекочут, во все стороны от ног прыгают, на деревьях листы шуршат, будто переговариваются, тропка сухая вдоль реки вьется, а вода под берегом уж так блестит, так журчит, прохладой к себе манит...
Просят сестрицы Карла искупаться, да чтоб он тятеньке с маменькой о том не говорил! Уломали! В сторонки разошлись, да недалече, одежку с себя поскидали да голяком в воду бросились. Сестрицы на мелководье брызжутся, визжат, косы во все стороны треплют. Карл чуть поодаль, где омуты начинаются, плавает, в сторону косится, туда, где сестрицы плещутся. И так ему от этого волнительно — высматривает свою Анисью. А та вся в брызгах, как в сиянии, волосы по сторонам разметаны, к плечам да к груди липнут!
Сестрицы поплескались, замерзли да обратно на берег полезли сохнуть. А Анисья решила еще поплавать. Легла на воду, поплыла, да сама того не заметила, как на стремнине оказалась! Понесла ее река, да все быстрее, все дале от берега, а сестрицы ничего того не видят — на поляне на травке валяются, жучков-паучков собирают. Барахтается Анисья, из сил выбивается. А там подале омуты глубокие с сомами да русалками — засосут, затянут да в самой пучине утопят! Боязно!
Закричала Анисья, да захлебнулась... Видно, пропадать ей!
Ладно Карл в то время из реки еще не вылез — увидал, как утопленница в воде барахтается, поплыл к ней, рукой поперек схватил да, другой рукой загребая, к берегу потащил. Анисья к нему прижалась, вцепилась аки клещ, насилу он с ней со стремнины выгреб. Как дна ногой коснулся — от сердца отлегло. Стоит в воде, дух переводит, Анисью держит — той-то глубоко еще, дна не чует, да с испугу всем телом к нему льнет, отчего Карла, хоть в холодной воде был, в жар бросает.
А уж не боится Анисья, но от него не отлипает и к берегу сама не плывет.
— Вот, — говорит, — друг сердешный, ты меня сызнова от смерти неминучей спас! Ране от огня, а ныне — от омутов бездонных!
И пуще прежнего его обхватывает и к нему липнет. И как прилежная ученица, по-немецки слова заученные на ухо шепчет:
— Ich Hebe dich... — Да сызнова: — Ich Hebe dich...
И руками своими, голову его обхватив, к себе клонит.
Тогда-то все и приключилось!
Из воды-то они вылезли уже мужем да женой!...
Чем Карл счастлив безмерно стал.
И Анисья тоже.
Да только недолгим счастье их оказалось!...
Кабинет был тот же.
И люди те же.
Но обхождение — иное.
— Жив?! — обрадованно спросил следователь. Его следователь. У него.
И улыбнулся! С явным облегчением.
И не только он, но и все, кто был в этот момент в кабинете, все люди в кожанках, повскакав с мест, тоже заулыбались. Словно им пряник показали.
— Успели, значица!...
Мишель решительно ничего не понимал! Не понимал, откуда такая перемена. Несколько дней назад те же люди, здесь же, разговаривали с ним совсем иначе, а теперь разве только чай не предлагают.
— Может, вам чайку налить? — услужливо спросил кто-то.
Ну вот...
— Чего же вы скрытничали-то? — укоризненно качая головой, спросил следователь. — Ай-ай!
Он скрытничал?... Чего они еще хотят от него добиться? Сверх того, что он им уже сказал, ему сказать нечего. И того было более чем довольно!
Но если это продолжение допроса, то почему тогда такой тон?... И чай?... И улыбки?...
Что за чертовщина?
Мишелю поднесли кружку горячего чая и посадили на стул — на тот самый. Следователи, сдвинув стулья, расселись против него полукружком и, влюбленно заглядывая ему в глаза, по-отечески пожурили.
— Чего ж вы молчали-то! Чего скрывали, что имеете заслуги перед революцией?
Он имеет?...
Заслуги?...
Перед их революцией?!
Ну тогда он и вообще ничего не понимает!
— Что же вы не сказали, что лично знакомы с товарищем Троцким?
Троцким?... Уж не тем ли самым, с которым он сидел в Крестах в соседних камерах и которого в шахматы обыгрывал?
Ах вот в чем дело!
Но что с того?...
— А разве это что-то меняет, коли вы считаете, что я преступник, достойный применения смертной казни? — мстительно спросил Мишель.
В глазах людей в кожанках мелькнула растерянность и даже страх.
— Ну как же... Конечно!... — наперебой загомонили они. — Ежели вы имеете заслуги перед революцией, ежели пострадали от прежнего режима, то это совсем иное дело! Значит, вы проверенный товарищ...
Вот он уже и товарищем стал... Этим товарищам!
Мишеля дружески похлопывали по плечу и спине и угощали папиросами.
И лишь когда он уходил, в полумраке коридорчика кто-то злобно шепнул ему на ухо: