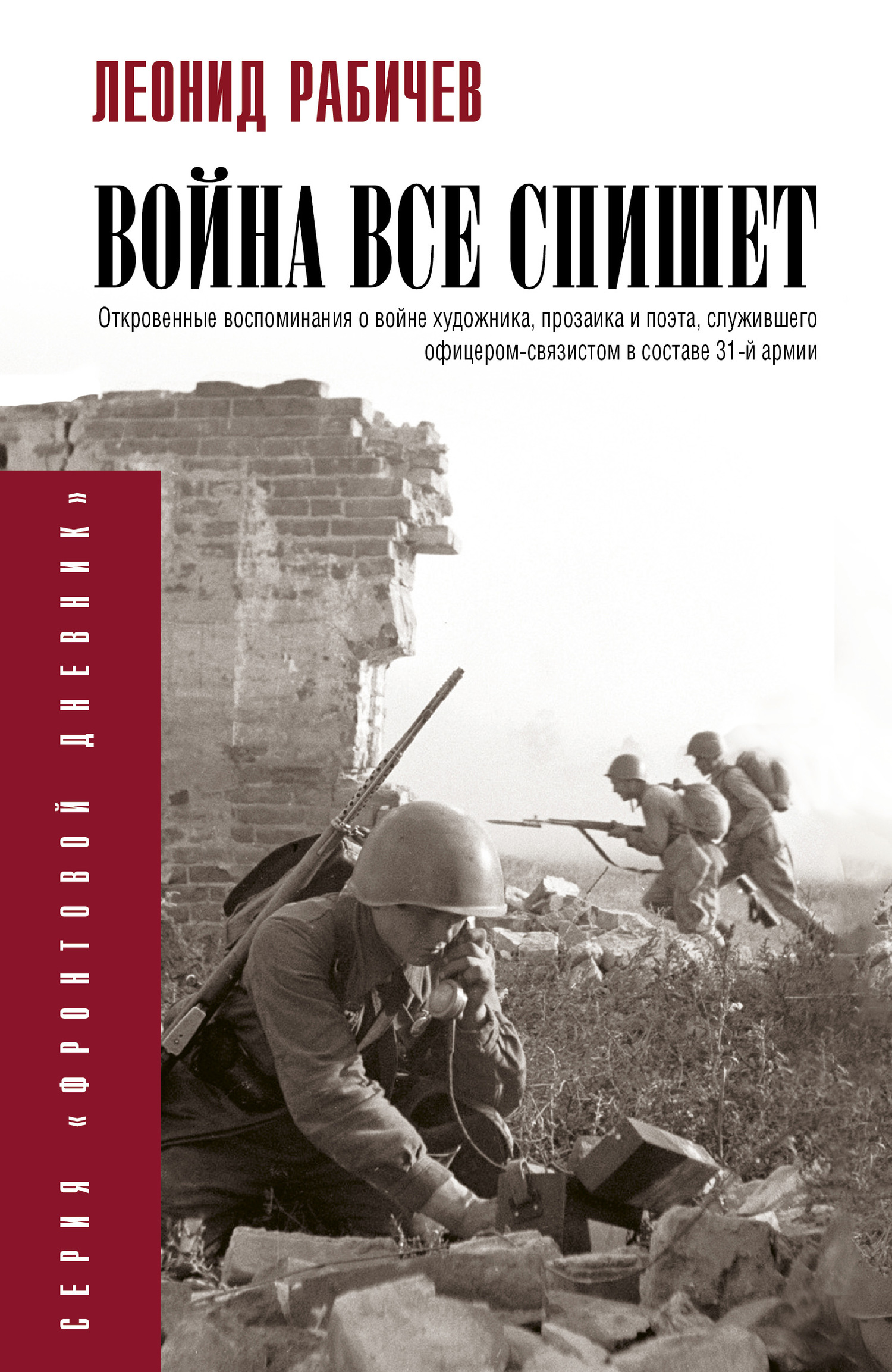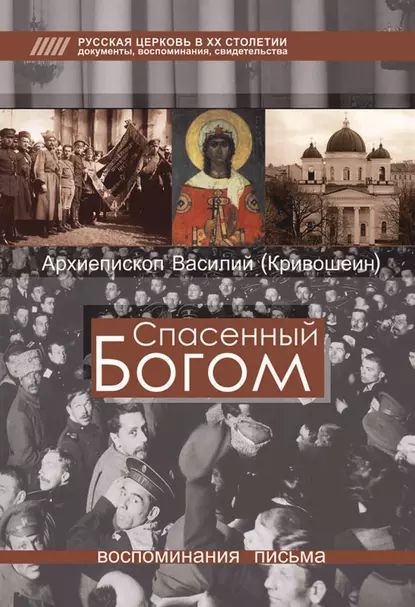Книга Не так давно. Пять лет с Мейерхольдом Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания - Александр Константинович Гладков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Почему?
Я сказал, что это скорее Гоголь, чем Чехов. Он на секунду задумался, потом возразил:
— А разве Гоголь не мог влиять на Чехова?
Логически это было вполне убедительно, и я промолчал. Когда вечером я пришел на спектакль, мне передали, что В. Э. спрашивал меня. Я нашел его в одном из кабинетов Театра имени Франко. Перед ним лежала пачка книг. Это были томики Чехова.
— Вот, послушайте… — сказал В. Э. и с торжеством в голосе стал читать отрывки из ранних рассказов писателя. Читал он с явным удовольствием, и я перестал жалеть, что возразил ему. — Гоголь! — сказал он. — Настоящий Гоголь!.. А вот еще… А вот Чехов, нашедший себя!.. А вот опять Гоголь! А что?
Мы провели остаток вечера до конца спектакля за сравнительным анализом приемов смешного Гоголя и Чехова, и В. Э. так этим увлекся, что прогонял приходивших к нему по самым неотложным делам ассистентов и администраторов. Я понял в тот вечер, какое значение для него имел приведенный мною аргумент. Чехов был моим любимейшим писателем, и я думал, что хорошо его знаю: за год до этого даже прочитал публичный доклад о водевилях Чехова, но оказалось, что Мейерхольд знал его неизмеримо лучше. Признавая его правоту, я чувствовал, что эта маленькая победа доставила В. Э. удовольствие не потому, что он защитил свою находку — какое значение могло, собственно, иметь мое мнение? — а оттого, что он подтвердил прочность своей позиции в том, что он считал принципиально самым важным: в верности стилю автора.
Встречаясь в жизни и в работе со смешным, В. Э. всегда точно определял его стилистический эквивалент. Иногда это даже делалось у него своеобразной игрой: «Смешно, но как смешно?» Кстати, одной из «самых смешных» книг русской литературы В. Э. считал «Село Степанчиково» Достоевского. Однажды я застал его читавшим ее вслух заболевшей З. Н.Райх. Еще больше восторгался он Гоголем. Любимым примером для доказательства широты выразительных средств реализма ему часто служила гоголевская фраза из «Мертвых душ» о половом из трактира, который был так вертляв, что лицо его невозможно было рассмотреть.
В. Э. любил и умел «разыгрывать». В первые месяцы нашего знакомства я тоже был жертвой его «розыгрышей», всегда неожиданных и оригинальных. Потом я много раз наблюдал, как он разыгрывал при мне других. Часто он разыгрывал без всякой насмешки, иногда с чисто педагогической целью.
На одной из репетиций «Бориса Годунова» В. Э. вызвал читать роль Басманова студента третьего курса техникума Б. У Б. был красивый голос и хорошая внешность, но он еще не сыграл в театре ни одной роли. Когда он взял из рук В. Э. томик Пушкина, у него дрожали руки, а лицо покрылось красными пятнами. Неожиданно для всех В. Э. обратил внимание на его новые вельветовые брюки и, похвалив их, стал спрашивать, где он их купил. Под общий смех В. Э. сказал, что давно мечтает иметь такие брюки, и захотел узнать, есть ли в магазине еще и как туда проехать. В. Э. подошел к Б., пощупал материал, встал к Б. спина спиной, чтобы выяснить, насколько тот выше его, спросил Б., не отдаст ли он ему эти брюки, и, добившись того, что Б. стал свободно и просто разговаривать с ним, еще раз восхитившись брюками, как бы нехотя перешел к репетиции. Я сначала воспринял это как чудачество В. Э., но, садясь рядом со мной на свое место, он мне шепнул: «Смотрите, он совсем успокоился…» И действительно, Б. начал читать совершенно спокойно.
Таких случаев было множество. Удивительно легко В. Э. умел успокаивать экзаменующихся в техникум, создавая простыми бытовыми вопросами свободную атмосферу юмора. В. Э. шутит, кругом все смеются, смеется и взволнованный абитуриент, смеется и успокаивается. Податливость к юмору для В. Э. всегда являлась проверкой артистичности.
Надо было очень привыкнуть к нему, чтобы сразу понять, почему В. Э. вдруг засмеялся. Он великолепно умел разыгрывать с невозмутимым видом, но часто хохотал над тем, в чем другие не видели ничего смешного. Его быстрый ум ловил сложные ассоциативные ходы, а воображение само создавало бесчисленные причудливые положения и ситуации.
Как — то на гастролях в Киеве я сказал ему вечером, что мне надо утром поехать на аэродром встречать прилетающего из Ленинграда поэта В.АПяста, приглашенного консультировать работу над стихом в «Борисе Годунове». Это вдруг страшно рассмешило Мейерхольда, хотя я не мог понять, почему.
— Пяст в самолете!!! Пяст прилетает!!! — повторял В. Э., хохоча.
Только познакомившись с В.АПястом, поэтом — символистом, чопорным, утонченным старым петербуржцем, полным всяких странностей (например, он носил в кармане всегда четвертинку спирта, чтобы, прикоснувшись случайно к дверной ручке или поздоровавшись с незнакомым, незаметно протереть спиртом руки), изысканно вежливым и до предела наивным, я понял, что действительно сочетание этой старомодной фигуры с авиасообщением способно разбудить юмор.
Кстати, Пяст и Мейерхольд были ровесниками. Но один из них весь как бы принадлежал XIX веку, а другой казался современником, самым молодым.
Характерным для шуток и розыгрышей В. Э. являлось постепенное нагнетание степени преувеличения. Это вообще был его излюбленный психологический трюкначиная с серьезного, доводить до