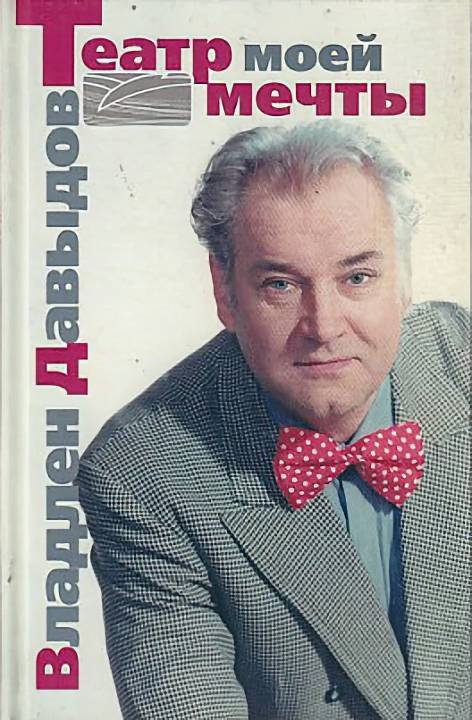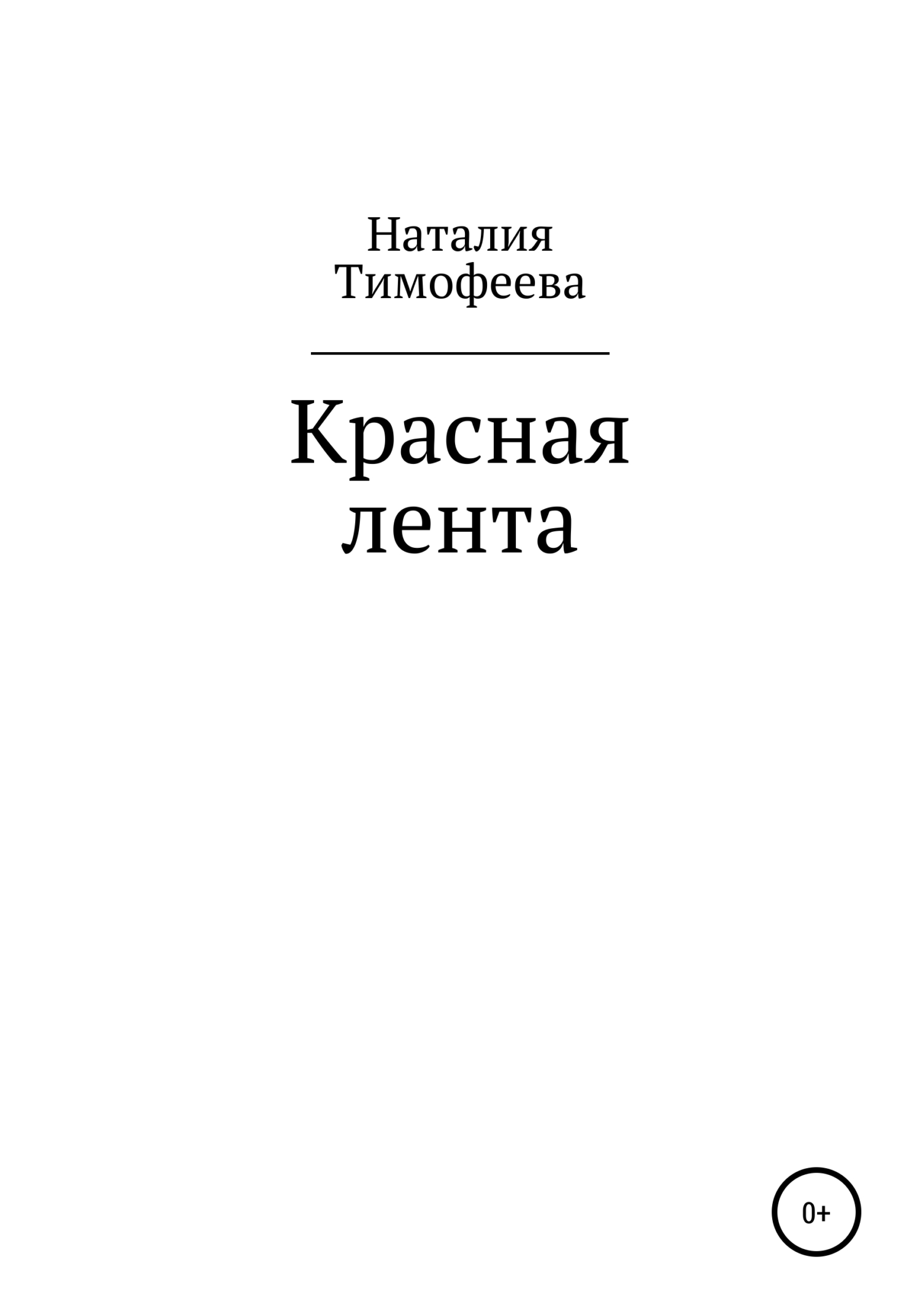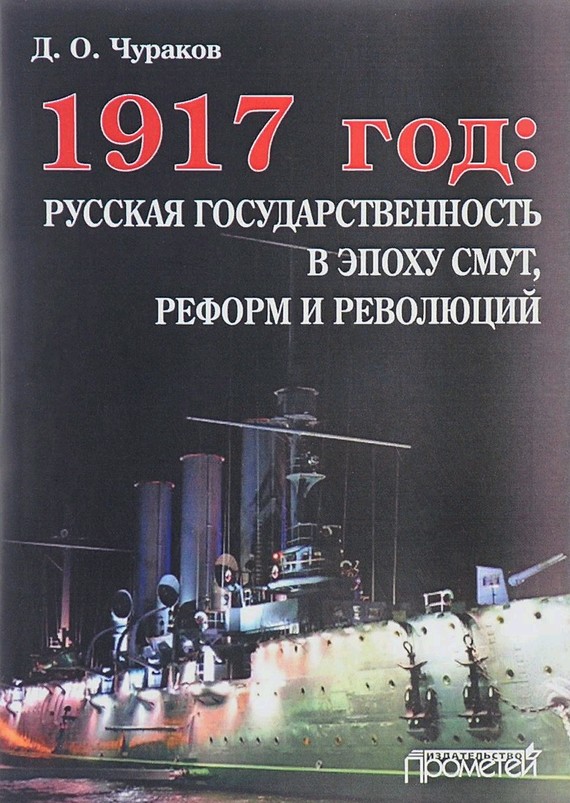Книга Серьезное и смешное - Алексей Григорьевич Алексеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И я пошел. И ушел бы на тот свет, если бы во дворе казармы меня не остановил какой-то офицер:
— Вольноопределяющийся! Ваша фамилия?
— Алексеев.
— Это не вы ли в «Pavillon de Paris» выступали?
— Я.
— А тут что делаете?
Вопрос был довольно нелепый, и я только плечами повел. Офицер заулыбался. А наутро ротный вызвал меня, освободил от всяких учений и мучений и поручил устраивать солдатские концерты. И я устраивал.
Но, бо-о-оже мой, что это было!
Вы, нынешние матросы и солдаты, участники художественной самодеятельности! По сравнению с вашими солдатскими предками вы — Каратыгины, Мочаловы, Гаррики, Ильинские!
Вскоре начальство, узнав, что я актер, приказало и мне участвовать в концертах, и я играл Федю в пьесе «Бедный Федя» под бурные аплодисменты моих товарищей-солдат, которые ничего лучшего никогда не видали. А когда начальство узнало, что я конферировал в Петербурге, мне приказано было послужить царю и отечеству и в этом качестве. Но тут уж я отказался, мотивируя тем, что в солдатской форме это невозможно — связывает. Тогда мне предложили командировку в Петроград «на предмет привезения фрака». Думаю, что за период трехсотлетнего царствования дома Романовых такой документ нижнему чину был выдан в первый раз!
И вот я в Петрограде, дома! В солдатской форме. После грязной лаппенрантской казармы меня чествуют друзья у «Медведя». Отдельный кабинет. Настоящие тарелки, а не бачок! Порции, а не паек! Забытые орудия производства: вилки, салфетки, бокалы, стулья… Стол, накрытый скатертью… А за столом! Два Аркадия, Аверченко и Бухов, читают тут же придуманное приветствие «финну Алексейайнену», и Марадудина «имеет слово» — не помню от кого, Василий Регинин поет весьма непочтенные шансонетки, аккомпанируя себе на рояле и умудряясь в это же время пританцовывать. Иза, обаятельная, смеющаяся всеми своими белоснежными зубами Иза Кремер, поет свою последнюю песню… Юрий Морфесси, даже тут по привычке пленяющий всех и вся… Леонард Пальмский — переводчик и «делатель» опереточных либретто, Николай Николаевич Ходотов и Иван Владиславович Лерский из «Александринки» и, как бог с театрального Олимпа, милый, немного застенчивый, уютно улыбающийся Владимир Николаевич Давыдов…
Весело. Кажется, все налицо, но мне кого-то не хватает… Кого-то привычного, а кого — вспомнить не могу. И все оглядываюсь на дверь.
— Кого же ты еще ждешь? — спрашивает Давыдов.
— Кого-то, а кого — не вспомню…
И вдруг посмотрел на свою солдатскую форму и вспомнил: фельдфебеля! Взводного! Уж очень привык…
А в разгар веселья я чуть не влетел в историю. Вышел из кабинета, навстречу идет генерал. Старенький, пьяненький. Я остановился, и он остановился. Я испугался, а он удивился: как? солдат? у «Медведя»? в кабинете? Гнать! Арестовать! Он стоит, и я стою, растерялся: надо стать во фронт, да куда уж там! Так и стояли мы, задерживая движение… Но вот официант на бегу налетел на меня, и посыпались на пол бутылки, тарелки, судки, закуски холодные и горячие… Тут мой генерал воспользовался суматохой и… бежал. Бежал и я — в другую сторону.
А ведь могло окончиться плохо: нижний чин не смел посещать рестораны. Даже в прокуренном, заплеванном буфете при вокзале маленькой финской станции на меня напал какой-то прапор за то, что я сел за столик без разрешения, и выгнал на перрон! А около крепости, где размещался наш полк, был паршивый садик. При входе стоял столбик, к столбику прибита была дощечка с надписью: «Нижним чинам и собакам вход запрещен».
А козы гуляли в нем беспрепятственно: очевидно, были чином выше нас с собаками.
Знают ли наши солдаты, что нижний чин в трамвае имел право ездить только на передней площадке и что его «солдатская морда» не охранялась ни законом, ни обычаем? Думаю, что не знают, а если знают, то не очень верят.
Прожил я несколько дней в Петрограде, набрался впечатлений — и обратно. А вскоре состоялось мое «выступление» в качестве солдатского конферансье. Клубов солдатских тогда не существовало и в помине. В самом слове «клуб» было нечто барское, буржуазное. Английский клуб, коммерческий клуб, спортивный клуб — все это были закрытые учреждения, куда члены избирались баллотировкой, а гости допускались по строгому отбору, по рекомендации двух-трех членов; были театральные и литературные клубы, но назывались они «кружками»; офицерские клубы назывались собраниями; и там и там ужинали и играли в карты, а концерты были редчайшими событиями.
Наш концерт по случаю встречи Нового года состоялся в офицерском собрании. В этом маленьком убогом здании солдаты наскоро сколотили крохотную эстраду.
Первое отделение — любители. Уж не помню, что и как читали, пели и танцевали офицеры, их жены и дочери, но если бы сегодня показать в Доме офицеров такой концерт, самодеятельный кружок разогнали бы, а руководителя отдали бы под суд. Второе отделение — солдатское. Тут по крайней мере все было громкое, сильное, здоровое.
Сам себя я, конечно, не видел, но представляю, как нелепо выглядел на этом фоне мой петербургский фрак. И не знаю, имел ли я успех у «господ офицеров», но у солдат это был не успех, а фурор. Конечно, не мое остроумие, не мой юмор, не мои шутки — поразило их другое: «Как ты с ними! Без «ваше благородие»! Без «высокоблагородие»! А просто: вы! Полковнику!.. Здорово! И не боялся! Ишь ты какой! И не по форме одетый! Да еще задирал. Самого полковника! Ну и ну!»
А затем потекли скучные, нудные казарменные дни. На фронт меня нельзя было послать — врачебная комиссия установила мою негодность по близорукости, а отпустить полковник не хотел: почему не иметь в полку на всякий случай петербургского артиста? И ходил я по лавкам, изучал финский язык: юкс, какс, кольмен, нелия… (один, два, три, четыре), а во время занятий словесностью читал Достоевского («Чевой-то ты, Алексеев, читаешь? Какого-то «Адиёта»? — спрашивал фельдфебель).
И я был не единственным «негодным», которого незаконно держали по принципу «почему не иметь в полку». Был там еще один столь же бравый солдат — Володя… Поистине неисповедимы пути господни — с 1896 года, с приготовительного класса, учился со мной в гимназии мальчишка Володя, маменькин сынок, его привозила утром на извозчике няня, а после уроков приезжал за ним папа. И вот через двадцать лет в другом конце если не света, то огромной страны я встречаю его. Он тоже солдат, тоже «негодный» и, оказывается, тоже театральный человек — художник! Прошло еще много лет, и мы встретились в Москве. Из приготовишки он вырос сперва в «негодного» солдата, а потом в очень годного театрального художника, профессора Государственного института театрального искусства — Владимира Николаевича Миллера.
И вот как-то встретились лаппенрантские друзья-однополчане в Москве