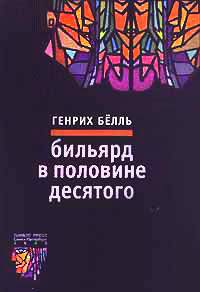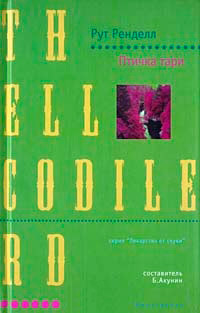Книга Дом без хозяина - Генрих Белль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прошлое и настоящее кружились, перемещаясь, словно диски, отыскивающие единый центр: один вращался равномерно, ось его проходила как раз посредине, и это было прошлое, которое, как ему казалось, он видит с предельной ясностью, но настоящее вращалось гораздо быстрей прошлого, как бы вокруг иного центра, и с этим ничего нельзя было поделать, несмотря на лицо мальчика, на дыхание мальчика, которое он чувствовал на своей руке, несмотря на доброе круглое лицо Глума. Ничего нельзя было поделать, пусть даже прошедшие двадцать лет оставили неизгладимые следы на лице Неллы, и он видел их, ясно видел: морщинки у глаз, и складки жира на располневшей с возрастом шее, и губы, потрескавшиеся от непрерывного курения, и жесткие морщины на лице – все равно ничего с этим не поделать. Он поддался на ее улыбку, на автоматически расточаемое колдовство, которое растворяло время, превращало в призрак ребенка, спавшего в его постели, и между настоящим и с виду так ровно, так равномерно вращающимся прошлым внезапно вклинился ярко-желтый диск: время, никогда не существовавшее, жизнь, никем не прожитая, мечта Неллы. Она вовлекала его в свою мечту, пусть ненадолго, на те короткие мгновенья, когда ночью на кухне она варила кофе и готовила бутерброды, которые зачерствеют на тарелке. Кофейник, бутерброды, улыбка и серый молочный утренний свет за окном – все это служило реквизитом и кулисами для мучительной мечты Неллы, мечты прожить жизнь, которая не была прожита и никогда не будет прожита, мечты о жизни с Раймундом.
– Ох, – пробормотал он, – ты сведешь меня с ума.
Он закрыл глаза, чтобы не видеть головокружительного вращения: бешеного мелькания трех дисков, которые никогда не совместятся; убийственная несовместимость, в которой нет ни мгновенья покоя.
Кофе, которого никто не выпьет, бутерброды, которых никто не съест, – реквизит кровавой драмы, куда его вовлекли как единственного и необходимого статиста, – но все же его утешало, что Больда разогреет себе этот кофе, что Глум завернет эти бутерброды и возьмет их с собой на работу.
– Можешь идти, – устало промолвила Нелла, накрывая кофейник зеленой крышкой.
Он отрицательно мотнул головой.
– Почему бы нам не попытаться как-то упростить жизнь? – сказал он.
– Что же нам, пожениться, что ли? – ответила она. – Думаешь, это что-нибудь упростит?
– А почему бы и нет?
– Иди лучше спать. Я не хочу тебя мучить.
Он вышел, не сказав ни слова. Тихо прошел через прихожую в ванную комнату. Там зажег газ, пустил воду и положил шланг гибкого душа так, чтобы вода бесшумно наполняла ванну.
Он долго стоял неподвижно и тупо смотрел на воду, поднимавшуюся легкими голубоватыми струйками со дна ванны, и напряженно ловил доносившиеся снаружи звуки; он слышал, как Нелла прошла к себе, потом, как она заплакала. Она оставила открытой дверь в свою комнату, пусть он слышит ее плач. В доме было тихо, прохладно. Уже светало. Занятый своими мыслями, он бросил в ванну окурок и, чуть не падая от усталости, наблюдал, как размокает окурок, как оседает на дно темно-серая пыль – это затвердевший пепел, а светло-желтые крупинки табака сперва идут густой полосой, потом расплываются по поверхности воды, и вокруг каждой крупинки желтоватое облачко; сигарета потемнела, и на ней отчетливо проступила надпись «Томагавк». Когда он курил сигареты, он для удобства выбирал бабушкин сорт, чтобы всегда быть готовым к ее набегам. Желтоватое облачко разрослось уже до размеров гриба, но вода, бившая из душа на дне ванны, выталкивала наверх расплывавшееся, блекнущее облачко, не давала ему опуститься, а внизу, на чистом синем дне ванны, кружились черные затвердевшие частички пепла, и неведомая сила медленно увлекала их к стоку.
Нелла продолжала плакать, дверь оставалась открытой, он выключил вдруг газ, закрыл кран, вытащил за никелированную цепочку пробку из ванны и проследил, как желтоватое табачное облачко исчезло в водовороте.
Он погасил свет и направился к Нелле. Она курила и рыдала. Он остановился в дверях и суровым голосом, удивившим его самого, крикнул:
– Чего ты, собственно, хочешь?
– Войди, присядь, – ответила она. Улыбка у нее не сразу получилась, и это тронуло его; не часто с нею такое случалось. Он сел, взял сигарету из пачки, которую она протянула ему, а она снова улыбнулась, и теперь уже широко; казалось, что кто-то нажал тайную пружину; как фотограф пользуется лампой-вспышкой, так она пользовалась своей улыбкой, – она славилась ею, но теперь эта улыбка утомляла его, как утомлял и вид ее нежных белых рук, прославленных не меньше, чем ее улыбка: она не пренебрегла и самой дешевой уловкой: положила ногу на ногу и чуть откинулась назад, чтобы виднее была ее красивая грудь.
В ванной забулькали остатки воды: короткий всхлип, и уже не слышен больше успокоительный шум.
– Замуж, – тихо сказала она, – я не хочу больше. На это я больше не пойду. Если хочешь, я тут же стану твоей любовницей, ты это знаешь, и буду тебе вернее, чем жена, но замуж я больше никогда не выйду. С тех пор как я по-настоящему поняла, что Рая больше нет, я часто думала, что лучше мне было бы вообще не выходить замуж, к чему этот маскарад, это кривлянье, эта убийственная серьезность в браке – и страх вдовства? Гражданская регистрация, венчание в церкви, а потом является какое-то ничтожество и посылает твоего мужа на верную смерть. Три миллиона, четыре миллиона этих торжественных союзов разрушено войной: вдовы, вдовы – у меня нет ни малейшего желания быть вдовой, и ничьей женой я тоже не хочу быть, и детей я больше иметь не хочу – вот мои условия.
– А мои ты знаешь, – сказал он.
– Конечно, – спокойно ответила она. – Тебе надо жениться и усыновить мальчика, и потом ты, вероятно, захочешь собственных детей.
– Спокойной ночи, – сказал он и хотел было встать.
– Нет, не уходи, – сказала она ровным голосом, – сейчас, когда становится чуть веселей, ты хочешь бежать. Ради чего нужно так корректно, так педантично, так строго придерживаться общепринятой морали, я этого просто не понимаю.
– Ради мальчика. Все твои мечты ничего не стоят по сравнению с ним. И потом тебе уже почти сорок.
– При Рае все было бы хорошо, и я была бы верна ему, и у нас бы родились еще дети, но смерть его меня сломила, как ты изволишь выражаться, и мне больше не хочется быть ничьей женой. Ты ведь и так Мартину вместо отца. Тебе этого мало?
– Боюсь, – сказал он, – что ты выйдешь за кого-нибудь другого и мальчик достанется ему.
– Значит, ты любишь мальчика больше, чем меня?
– Нет, – сказал он тихо, – его я люблю, а тебя – нет. Здесь не может быть больше или меньше. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы влюбиться в тебя, но ты достаточно красива, и мне было бы приятно жить с тобой, – но теперь я так не могу. Я очень часто думаю о Рае, да и мальчик все время возле меня. Вот в чем дело.
– А, – сказала она, – теперь я знаю, почему я за тебя не выйду: просто потому, что ты меня не любишь.