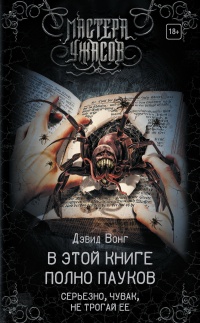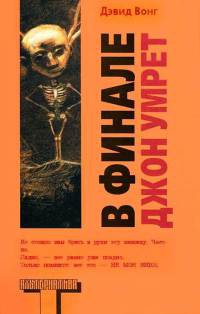Книга Мельмот - Сара Перри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нет, – отвечает Хелен.
– Я всегда думала, что в этом есть что-то немного… недостойное, – признается молодая женщина. Она стягивает перчатки. Обручального кольца на пальце нет. Ее мягкий и тихий голос становится суше, и теперь в нем звучит нечто вроде профессионального равнодушия: – Кровь все еще идет. Возможно, придется наложить швы.
– Не думаю, – произносит Хелен. Правда, платочек весь пропитался кровью, и женщина молча протягивает ей новый.
– Вам далеко идти?
– Нет, совсем недалеко. На Якубску. – И затем, желая показать этой девушке, еще очень юной, что она не так беспомощна, как кажется, Хелен добавляет: – Я иду к подруге.
– Мне тоже в ту сторону.
Молодая женщина встает и снова натягивает перчатки из тонкой серой шерсти, которые не мешало бы постирать. Она довольно высокая, плотная и немного нескладная. Одета так простенько – плиссированная юбка, колготки и неказистые туфли, – что Хелен внезапно приходит в голову, что она может быть монахиней.
– Может, пройдемся вместе? – Она краснеет. – А то, когда снег подмерзает, очень легко поскользнуться.
По всегдашней своей привычке Хелен собирается было отказаться от предложения составить ей компанию. Но во всем, что говорит эта женщина, в ее застенчивой неуверенной улыбке, в том, как она предлагает помощь, есть нечто подкупающее, чему очень трудно противостоять. Кто-то выключает свет, и золотые отблески на ее маленьком простеньком крестике гаснут.
– Вы очень добры, – говорит Хелен. – Кстати, я Хелен.
– Адая, – отзывается молодая женщина, снимает очки, протирает их и возвращает на переносицу. За стеклами ее глаза кажутся совершенно обыкновенными, только смотрят очень пристально. – Встать сможете, как думаете?
Под ее взглядом Хелен чувствует себя маленькой и глупой, и ей хочется ответить: «Вы должны понимать, что вообще-то именно я обычно остаюсь на ногах, когда другие падают».
– Думаю, да. Крови не так уж много.
– Вот и славно.
Молодая женщина предлагает ей руку. Она больше не кажется застенчивой – напротив, проявляет нечто вроде хорошо отрепетированной доброжелательности. Хелен думает, что она, конечно же, не монахиня, а медсестра, – хотя, возможно, именно Господь и открыл ей ее призвание.
– Возьмите меня за руку, я буду рада составить вам компанию. Только сразу скажите мне, если нога разболится сильнее. Коленная чашечка – штука коварная.
Значит, точно медсестра. Хелен думает о Тее – о ее слабой, неуверенной походке, неловких пальцах, блюдцах с таблетками. Она торопливо берет женщину под руку и выпускает ее, когда встает (голова слегка кружится).
– Думаю, со мной все будет в порядке, но если вам в любом случае надо в ту сторону…
В дверях женщина придерживает тяжелые шторы, и на ее губах мелькает полуулыбка, как будто она хочет сказать: «Со мной вам ничего не угрожает». Хелен верит. Какая опасность может подстерегать женщину в такой практичной обуви? Она оглядывается на темный храмовый зал – на посеребренные зеркала, на ангелов с пустыми свитками – и видит на подоконнике снаружи галку. Та склоняет голову в привычной вежливой манере, и Хелен кивает в ответ.
Снег шел недолго, но густо. Прага спит под свежевыстиранным пуховым покрывалом. Толпы туристов поредели, лишь небольшие стайки прохожих в ярких куртках топчутся у дверей кафе. Уличные попрошайки убрали свой инвентарь. Адая, еще больше похожая на медсестру в своем длинном пальто насыщенного синего цвета, неуверенно, будто боясь переступить черту, спрашивает:
– Вы здесь живете?
– Почти двадцать лет.
– И вам нравится город?
– Тогда он казался мне наиболее подходящим местом.
Хелен дотрагивается до колена, но кровь больше не течет, как будто ссадина на морозе покрылась корочкой льда.
– Вы счастливы?
– А разве кто-нибудь счастлив?
– Да уж. Этот город не создан для счастья.
Хелен такого не ожидала, она привыкла думать, что на нее одну не действуют чары пражских красот и оживленных улиц.
– Посмотрите, – говорит Адая. Ее затянутая в перчатку рука указывает на реку. – Вам когда-нибудь рассказывали о священнике, который отказался раскрыть королю тайну исповеди королевы? Его несколько дней пытали и в конце концов утопили.
– Зато он был причислен к лику святых, – отвечает Хелен.
– Да. И еще, говорят, получил венец из золотых звезд. А на Вацлавской площади Ян Палах совершил самосожжение в знак политического протеста. Думаете, он хотел умереть?
Мрачный настрой спутницы, как ни странно, действует на Хелен умиротворяюще. Она теперь больше не обязана находить в каждом шпиле и в каждой башенке матери городов повод для восхищения и восторга.
– Ой, посмотрите. – Адая замолкает на мгновение и показывает носком поношенной туфли на очищенный от снега кусочек тротуара. – «Камень преткновения».
Хелен знает, что это такое, она неоднократно видела эти вмонтированные в брусчатку блестящие квадратики медных табличек в тех местах, где жили мужчины, женщины и дети, впоследствии убитые в концлагерях. Она смотрит вниз. Надпись очень мелкая и уже частично стерлась, и ей не особенно хочется наклоняться и вглядываться. Адая снимает очки и читает:
– «Убита в Терезиенштадте 19 августа 1942 года». Ей было всего шестнадцать лет. Интересно, когда Господь дал нам свободу пасть, знал ли Он, что мы падем так низко?
– Шестнадцать, – повторяет Хелен.
Это настолько горько, настолько выходит за рамки ее понимания, что в ней пробуждается интерес. Она наклоняется (колено простреливает болью), чтобы прочесть имя, и ахает, глотая такой колючий и холодный воздух, что язык будто индевеет.
– Колено? – спрашивает Адая и протягивает руку, чтобы поддержать ее.
– Нет, – говорит Хелен. – Нет, просто это имя мне уже встречалось.
Она делает шаг назад и переводит взгляд на окна, под которыми уложен «камень преткновения». Это здание магазина, довольно-таки красивое, ставни на витринах опущены. Выглядит точно так, как она и предполагала.
– А-а. – Ее спутница колеблется. – Что ж, вы посмотрели на дом, и больше ничего от вас сейчас не требуется. Пойдемте дальше. – Она протягивает руку: – Идемте.
Тея выходит открыть дверь самостоятельно. Она пьяна, но ровно до такой степени, какой может достичь только эксперт в этой области: разговорчива, но не чрезмерно, остроумна, но не до язвительности. На ней алый парчовый халат с воротником и карманами травянисто-зеленого цвета, вокруг шеи небрежно повязан зеленый шарфик. На голове огромный бесформенный бархатный берет, какой мог бы носить паж эпохи Тюдоров, на груди зеленый молдавит на серебряной цепочке, а в слегка подрагивающей руке позолоченный мозерский бокал с вином. Ее босые маленькие ноги на сосновом полу кажутся бледными и слабыми, левая ступня повернута носком внутрь, пальцы поджаты. Вид у нее одновременно величественный и неряшливый – она явно наряжалась долго и тщательно, но успехом ее труды не увенчались. Пояс затянут слишком слабо, и видно, что халат надет на голое тело.