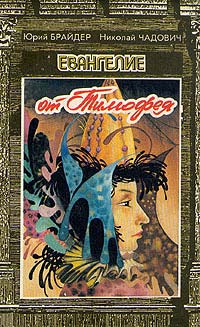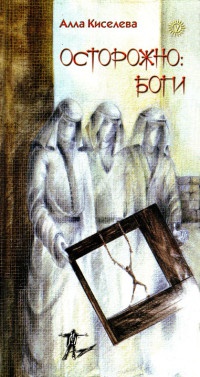Книга Охота на Минотавра - Николай Чадович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Стоит себе. Попробуй к ним сунься! Царских заводчиков они прогнали, а мятежников и близко не подпускают. Собираются свое собственное государство учредить. Тульскую заводскую республику. В правители французского маркиза Лафайета метят.
– Почему именно его?
– Молодой, бравый, ушлый, ревностный и в пушках разбирается.
– Не лучше ли кого своего поискать? Есть у нас в России такой Алексашка Аракчеев. Годами, правда, еще весьма юн, но задатки редкостные. И бравый, и ревностный, и ушлый, а в пушках просто души не чает. С людьми, правда, крут, так тулякам ведь нужен правитель, а не повивальная бабка.
– То не мои хлопоты! Я по императрице ежечасно слезы лью. Кажется, обыкновенная баба, проклятье рода человеческого, сосуд диавольский, а ум имела поистине государственный. Огромадный ум…
– Да и дразнилку соответствующих размеров, – как бы между прочим добавил Барков. – Одаренная личность. Кругом сокровища имела. И на плечах, и между ног.
– Над святым, щелобень, глумишься! Народному горю радуешься! Императрицу спасать надо, а ты здесь зубоскалишь… Взял бы лучше меня в Петербург.
– Нельзя тебе там показываться, Иван Петрович, неужели непонятно. Здесь ты никому глаза не мозолишь, поскольку внешность имеешь самую хамскую. А в Петербурге всех любимчиков императрицы уже к ногтю взяли. По спискам и по счету. И не только полюбовников да статс-секретарей, а и портных, шутов, ювелиров, духовников, садовников. Все в Алексеевском равелине и Трубецком бастионе сидят. И ты туда же хочешь? Зачем, спросят, ты самодержице часы с секретом дарил? Чтоб простому народу и лишней минутки отдыха не было… Какого рожна оптические стекла ей шлифовал? Дабы она за ростками свободолюбия ревностно приглядывала… Чего ради на Ижорском заводе пресс редкостной силы мастерил? Чтобы эти самые ростки в зародыше давить. Была бы голова, а топор завсегда найдется… Так что сиди пока здесь. Императрицу мы как-нибудь и без тебя выручим.
– Уж постарайтесь, бога ради, а я в долгу не останусь.
– Как там крестник мой поживает? Ни на что не жалуется? – Барков перевел разговор на другое.
– Грех ему жаловаться. В Петербурге, сказывают, с провиантом беда. Нет былого подвоза. Не то что рябчиков, а бывает и хлеба не сыщешь. Я же ему, что ни день, штоф водки выдаю. Сегодня – рябиновки, завтра – кизлярки, послезавтра – перцовки, и так до бесконечности. К тому же московские вареные окорока ему весьма по вкусу пришлись. Второй доедает.
– Сударушку себе не требовал?
– Упаси боже! Зачем ему сударушку при такой-то кормежке… Перо и бумагу недавно затребовал, это было. Сочиняет что-то.
– На всякие анекдоты он великий затейник. Заслушаешься.
– Его анекдоты в аду рассказывать – и то стыдно! – Кулибин с ожесточением перекрестился. – Срамотища…
– Императрица, между прочим, их весьма одобряла. Особенно про то, как на балу со скуки в рояль насрали.
– Уймись, греховодник! – Кулибин погрозил собеседнику пальцем. – А не то прокляну…
Речь меж двух Иванов шла о лейб-гвардии подпоручике Алексее Ржевском, бездарном поэте, но неподражаемом острослове, моте, выпивохе и многоженце, благодаря своему масонскому прошлому оказавшемся в чести у новой петербургской власти и выполнявшем при ней роль посланника по особым поручениям.
Это именно Ржевский, а вовсе не Барков был послан на переговоры с Пугачевым. Однако, встретив на полпути давнишнего приятеля (встреча сия, само собой, была заранее подстроена), он не устоял перед искушениями пьянства, бильярда, карт и разврата, вследствие чего оказался за решеткой в доме Кулибина. Все свои права он практически без принуждения, можно сказать, по доброй воле делегировал Баркову, о чем впоследствии никогда не сожалел.
Известна целая серия анекдотов (вполне вероятно, придуманных самим Ржевским) о его бесконечных состязаниях с Барковым по части всяческих похабных каверз, но об этой – пусть и полулегендарной – стороне деятельности двух российских пиитов благоразумней будет умолчать.
Жизнь свою Ржевский закончил вполне добропорядочным сенатором и академиком (в отличие от Баркова, последние годы которого теряются во мраке) и в грехе сочинительства уличен больше не был.
– Отдохни чуток, – сказал Барков Кулибину. – А мне еще поработать надо.
– Небось фальшивые ассигнации печатать будешь?
– Тебе что за дело, старый хрыч? С тобой ведь полновесным серебром расплачиваются.
– Деньги подделывать не меньший грех, чем людей развращать.
– Иди Ньютона своего поучи. А еще лучше поспи.
– Какой там сон, – тяжко вздохнул великий механик. – Буду тебя потихоньку в дорогу собирать.
– Патронов-то хоть много изготовил?
– Тыщи три. На час хорошего боя хватит.
– Мало. Делай еще. Я потом за ними человека пришлю.
– Того, что в конюшне почивает?
– А хотя бы и его. Что – не понравился?
– Мне с ним не детей крестить. Как бы шпионом не оказался.
– Вряд ли. Мы случайно познакомились.
– Христос с Иудой тоже случайно встретился. Последствия известные.
– Не каркай, архимед нижегородский.
Уединившись в светелке, представлявшей собой нечто среднее между химической лабораторией и печатней, Барков разложил перед собой грамоты, полученные от несчастного Бизяева, уже, наверное, подвергшегося страшной пугачевской опале.
Одни он только слегка подправил, а другие заменил похожими по виду, но иными по содержанию, для чего пришлось изрядно поработать и пером, и бритвой, и химикатами, и даже горячим утюгом.
В ближайшей церквушке едва успели прозвонить к заутрене, а все уже было готово к отъезду. Сытые кони рыли копытами снег, Крюков с ухарским видом восседал на козлах, Барков с Кулибиным заканчивали загружать в кибитку дорожные сундуки, один из которых вид имел весьма примечательный – ни дать ни взять гроб, предназначенный карлику.
– Крепись, императорский механик, – прощаясь, сказал Барков. – Скоро все возвратится на круги своя. Быть тебе в прежней должности и при прежних интересах. Зря из дома не высовывайся и Ньютона кормить не забывай.
– Желаю всенепременнейшей удачи. – Кулибин от полноты чувств даже прослезился на один глаз. – Не знаю точно твоих планов, но хочу верить, что радеешь во славу России. Так и дальше действуй.
– Действую, – ответил Барков, уже стоя на подножке кибитки. – Так усердно действую, что иной раз задница по шву готова треснуть… Знаю, что стихи ты почитаешь пустым баловством, но не могу не подарить напоследок сей куплет:
Пусть рожа у тебя крива,
Пусть пальцем жопу подтираешь,
А только в дерзости ума
Ты равного себе не знаешь.
По случаю раннего часа казачий сотник, распоряжавшийся на заставе, запиравшей Санкт-Петербургскую дорогу, был трезв, что, впрочем, ничуть не умаляло другой его недостаток – неграмотность.