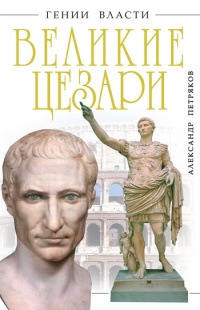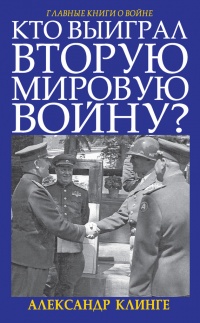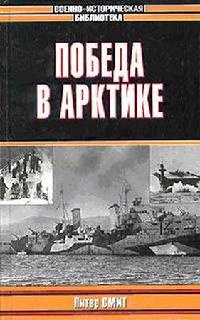Книга Диво - Павел Загребельный
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И в то время как наверху утопал в роскоши и излишествах императорский Рим, внизу, в сухих каменистых подземельях, рождалось нечто новое, всемогущее, как эти фигуры орант с молитвенно поднятыми руками. Бойтесь поднятых в молитве рук! Рука поднятая - рука действующая, рано или поздно такая рука упадет вниз. А падающая десница если и не карающая, то непременно дерзкая, угрожающая.
Рождается искусство совершенно новое, непохожее на какое-либо из существовавших прежде.
Против тяжеленных идолов, гармонических героев и самодовольных, буйных в своей плотской силе богов здесь выступает бесплотная духовность, легкая окрыленность духа. Плоские, лишенные малейших намеков рельефности фигуры формируются, возникают из стен, будто тени или привидения, будто сконденсированные молитвы. Цель живописи - не давать глазам любоваться, роскошествовать, а призывать к молитве и поднимать души в ожидании предначертанного человечеству исцеления от грехов и страданий. Поэтому чрезвычайно ограниченное количество типов, почти отсутствуют подвижные, живые композиции, фигуры появляются перед нами в неподвижной фронтальности, господство шаблонов в изображении фигур, какая-то словно бы аббревиатура, художественный условный код. Что это? Обеднение существующего искусства? Бездарность художников катакомб? Но бездарности всегда пытаются копировать уже существующее. Следовательно, они должны были бы копировать античные образцы. Ничего подобного. Они были совершенно оригинальными. Не похожими ни на кого. Было новое искусство. Не примитивное, не древневосточное, не народно-обрядовое. Новое, революционизирующее, как всякое подлинное искусство. Самое же интересное заключалось вот в чем: оно не поддерживалось никем, прежде всего властями, ибо первобытные христиане вообще никакой власти не имели, преследовались. Императоры для забавы в цирках велели бросать их на растерзание диким зверям. Диоклетиан скомандовал целому войску выпустить стрелы в привязанного к столбу юного Себастьяна только за то, что он отважился сказать воинам слово в защиту новой веры.
Но ведь после Константина христианское искусство проявляет свои неоспоримые связи с античностью, возражал Отаве профессор Шнурре. Святые, как и в античном мире, спускаются на землю. Вседержитель - Пантократор восседает на троне, судит, издает законы, подобно Зевсу, а также царю земному. Библейские сюжеты находят свое отражение в многофигурных композициях, очень напоминающих изображения подвигов античных героев.
Очевидно, это можно объяснить фактом завоевания власти христианской церковью, высказывал предположение Отава. А новая власть всегда пытается заимствовать у старой все проверенное, установившееся, непоколебимое. Иногда она этим и довольствуется, иногда пытается выработать свои собственные ценности. То же получилось и с христианством. Если в четвертом столетии в самом деле ощущалась весьма выразительная реакция классического искусства, то уже в пятом столетии наступает перелом, частичное возращение к эпохе первобытных символов и чистой духовности. В мозаиках Равенны и миниатюрах кодекса Россано замыкается круг переоценки искусств, начавшийся в катакомбной живописи.
Дискуссия продолжалась, а одновременно продолжалась переписка между Марбургом и Киевом, профессор Шнурре спрашивал, не приходилось ли профессору Отаве бывать в Равенне и любоваться чудом Сан-Витале и Аполлинария Нового; Отава, с сожалением отмечая, что в Равенну выезжать ему еще не приходилось, спрашивал, имеет ли его коллега представление о неслыханных богатствах киевских соборов и церквей, о мозаиках и фреска к Софии, Успенского собора, Михайловского монастыря. Ясное дело, профессор Адальберт Шнурре не имел никакого представления о том, что таится в золотом мраке киевских соборов, ибо все публикации, бывшие до сих пор, - это лишь жалкие крохи, просто ничто, и если коллега Отава будет столь любезен... Коллега Отава был столь любезен...
А теперь нет ничего. Нет Киева, а есть только накрытое безнадежно-серыми тучами огромное кладбище. И не Гордей Отава стоит в измученной шеренге, а сама его эманация, невыразительная мгла, и Шнурре тоже не было, а было пустое место на возвышении, и с этого пустого места доносились бессмысленные слова, в которых безнадежно было бы доискиваться смысла.
Длилось это обычно до тех пор, пока профессору Шнурре надоедало разглагольствовать, и он, ничего не добившись своими рефератами, просто махнул бы рукой, подавая знак на уничтожение неблагодарных слушателей, которые так и не сумели выделить из своей среды его дорогого коллегу профессора Отаву.
Но примерно на третий, а возможно, на пятый день после начала "лекций" профессора Шнурре Гордей Отава вдруг впервые внимательно вгляделся в тех людей, которые собираются по ту сторону проволоки, и, не веря собственным глазам, заметил среди старых и молодых женщин, среди детей и седых стариков высокого худощавого мальчишку в сером пальтишке и надвинутой до самых бровей кепке. Ничего нового в том факте, что к лагерю приходят люди, для Гордея Отавы не было. Шли с первого дня, шли, несмотря на угрозу быть схваченными, брошенными за проволоку, шли в надежде увидеть родного или знакомого, найти дорогие глаза, посмотреть в них, шли с узелками и пакетиками, сами голодные, пытались перебросить через проволоку хотя бы отваренную картошину или краюху хлеба, такого теперь неожиданно редкостного в Киеве и на Украине. За проволокой люди стояли ежедневно, стояли с самого утра и допоздна, их не пугали угрозы охраны, их не могли отогнать выстрелы, им непременно нужно было найти, и никто не имел силы воспрепятствовать им в их великом, чаще всего безнадежном деле.
И уж кто должен был найти, тот находил, а ненайденные смотрели на них, на тех, кто уже не мог найти, между ними устанавливалось странное сосуществование, какая-то параллельная экзистенция, и те и другие были невольниками, хотя одни были брошены за колючую проволоку, а другие пришли к ней добровольно и стояли там без принуждения, словно своеобразное отражение заключенных.
Но ведь этот мальчик в кепке и в сером пальтишке - это был сын Гордея Отавы, Борис, Борисик, Боря!
И как только профессор Отава увидел по ту сторону колючей проволоки своего сына, как только убедился, что это в самом деле он, как только заметил, что Борис немигающими глазами всматривается в своего отца, всматривается внимательно и укоризненно, так, будто спрашивает, почему все это случилось, почему он не смог вывезти его из Киева, почему сам очутился здесь, а главное - почему молча терпит эту несусветную болтовню эсэсовского офицера, который искажает все мысли профессора Отавы, присваивает его взгляды, - тогда он, Отава, решительно шагнул вперед из извилистой немертвой шеренги и, обращаясь к своим товарищам, тут и там, за проволокой, а прежде всего адресуясь к сыну Борису, громко воскликнул:
- Вранье! Все он врет!
А уже потом, видимо, поддавшись привычной для научных дискуссий сдержанности, уже более спокойно повторил:
- Все, что он здесь говорил, - Отава кивнул в сторону профессора Шнурре, - неправда.
Так произошло саморазоблачение профессора Гордея Отавы.