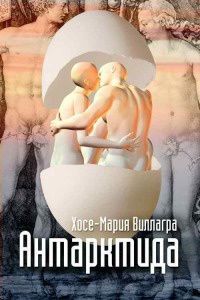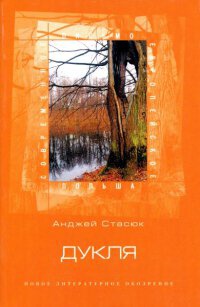Книга Фабрика мухобоек - Анджей Барт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что заставило меня оттуда уйти и вдобавок увести Дору? В конце концов, у всякого умопомрачения есть свои пределы. Я все еще не исключаю из рассмотрения сонный мираж, хотя уже сто раз себя щипал и убеждался, что не сплю. Единственное утешение – я перестал быть пассивным наблюдателем, и наконец хоть что-то от меня зависит. Я волен пойти налево, направо или прямо, что во сне или при психическом расстройстве вряд ли было бы возможно. Прежде чем двинуться с места, я незаметно проверяю, ведет ли посетивший меня фантом честную игру. Да, его ни в чем нельзя упрекнуть: конверт с деньгами как будто даже потолстел.
Я не знал, где ближайшая стоянка такси, но для чего существует почерпнутый из фильмов опыт? Как известно, стоит махнуть рукой или свистнуть, и к вам немедленно подкатывает такси, даже если Бродвей забит автомобилями. Чтобы не пугать Дору, я не стал свистеть, но достаточно было поднять руку, как рядом с визгом затормозило такси. Водитель был не первый день мне знаком, каждая наша поездка начиналась с того, что он читал свое стихотворение, всякий раз новое. Лишь незадолго до моего отъезда во Вроцлав он, подражая Борхесу, перекинулся на прозаические фантазии.
– Думаю, вы догадываетесь, что моя жизнь – готовый роман? Если б я вам рассказал несколько эпизодов, а вы их записали, мы бы оба разбогатели. Был у нас в армии капрал – набитый дурак и на беду родом из Лодзи. Но я-то не лыком шит…
Таксист (кажется, его зовут Зенон) даже не спрашивает, куда ехать, и лихо крутит баранку – я диву даюсь, как ему это удается, поскольку в зеркальце вижу, что он не сводит глаз с Доры. Чем дольше мы едем, тем больше я убеждаюсь в том, как сильно ошибался знаменитый голливудский режиссер, утверждавший, что Лодзь – город лузеров, которые героически отказываются в это верить. Тоже мне, умник! – поглядел бы на этих лузеров сейчас, вмиг бы понял, что сам такой.
Увидев, что Дора заскучала, я велю остановиться возле дома, где жили в детстве братья Брандысы, будущие писатели. Их предок, знаменитый врач, в Польшу, как и Дора, прибыл из Чехии, только не в гетто – его вызвали к одру короля Владислава IV Вазы. Доре, наверно, будет приятно послушать про земляка. Как завзятый следопыт, отыскивающий несуществующие следы, я когда-то снял несколько короткометражных фильмов под общим названием «Плохой город?», вопросительным знаком отважно давая понять, что такое мнение незаслуженно. Встречаясь с коренными лодзянами, я выспрашивал, каким был их родной город до войны и как изменился, когда в красивые и некрасивые дома вселились обитатели окрестных деревень. Именно Марьян Брандыс в посвященном ему фильме сказал новым жителям города: «Хочется верить, что сейчас, когда в Лодзи живут совсем другие люди, прежний дух толерантности сохранился». Однако дом Брандысов не произвел на Дору большого впечатления: она даже не захотела войти в подъезд, хоть я и уверял ее, что из окна на лестнице открывается красивый вид на двор.
И тогда мы вдоль площади, где до войны, как рассказывал мне отец, зимой был каток, не спеша направились к самой знаменитой лодзинской улице. Нам предстояло пройти мимо кинотеатра «Парадизо»: в моем школьном свидетельстве за шестой класс значится, что я без уважительной причины пропустил триста уроков, – если так оно и было, то, в свои двенадцать лет, столько времени я мог провести лишь здесь. Дора, впрочем, кинотеатра не заметила – куда больше ее занимали толпы прохожих на Пётрковской, к которой мы приближались. Только в двух шагах от прославленной улицы я сообразил, сколь неосторожно и, прежде всего, бестактно вести девушку туда, где вокруг будут ярко одетые и, вполне возможно, беседующие на чуждые ей темы люди. Спасла меня пресловутая женская интуиция: Дора внезапно остановилась.
– Ты знаешь Прогулочную улицу? Я там жила, пока нас не депортировали. Тебе не трудно меня туда отвести?
Я спешу воспользоваться случаем, и – неизвестно когда и как – мы оказываемся в бывшем гетто, на улице с обманчивым названием, ибо прогулки по ней даже вообразить трудно. Тут мало что изменилось, думаю я, разве только дома да брусчатка на мостовой постарели на шестьдесят лет. В подворотнях парни, которые в своих капюшонах и широченных штанах чувствовали бы себя по-свойски в любом уголке мира. Они были свободны, могли отправиться куда угодно и даже пешком за двадцать минут дошли бы до Пётрковской, но, казалось, нисколько не дорожат этой свободой. Дора со своим красивым ясным лицом, в своем старомодном платье производила здесь довольно странное впечатление, однако по нашему адресу не прозвучало ни одного грубого слова, ба, пацаны даже пытались сделать вид, что мы их не интересуем. Дора выбрала, надо сказать, самую неприглядную подворотню и не колеблясь направилась прямо к четырем крепким парням, которые, к счастью, вежливо расступились.
Подъезд своим унынием и печалью испугал меня, как испугал бы всякого, даже пораженного не столь тяжким, как мой, недугом. На лестнице пахло капустой, но – главным образом – нищетой, хотя во дворе стояли какие-то автомобили. Доре это не мешало: она быстро поднималась наверх и остановилась только перед дверью на последнем этаже, которую последний раз красили, вероятно, по приказу Румковского. Я понимал, чего Дора от меня ждет, но не успел постучаться, как дверь, по-видимому услыхав наши шаги, открыла пожилая женщина. Она заявила, что ничего не покупает, но дверь не закрыла. Я что-то пролепетал про кузину, чьи родители жили здесь до войны, и попросил разрешения войти и минутку посидеть в квартире, лучше всего у окна.
– Вы что, голубчики, думаете, дурочку нашли? Да я в этом доме родилась, еще война не кончилась, в сорок четвертом, немцы как раз дали родителям ордер на эту квартиру. Идите-ка лучше отсюда, пока я не позвала кого следует… – И она захлопнула у нас перед носом дверь, но не резко – похоже, беззлобно. И вероятно, не отошла – шагов, во всяком случае, слышно не было. Мы стали неторопливо спускаться по лестнице; Дора останавливалась возле каждой квартиры.
– Здесь жил пан Чехоцкий… Я узнала ручку. Он был очень добрый: хоть сам умирал от голода, носил еду ребенку, которого Пайхели прятали в подвале. Когда всех забирали, спрятался в угольном ящике. Там, наверно, остались дырки от пуль…
Я не в силах был это слушать. Попросил Дору посидеть на подоконнике, а сам спустился вниз, в подворотню. Когда я вернулся, она вглядывалась в окно на противоположной стороне двора.
Может, он и не загордился, но, конечно, был доволен, что на него устремились все взгляды. Наверняка ждали кого-то взрослого, а это оказался всего лишь он, Марек; правда, его вела, ухватив за шиворот, женщина ростом выше самого высокого мужчины. Судья сразу это заметил и поспешил ее одернуть:
– Благодарю за усердие, пани Станислава, однако попрошу повежливее обращаться с мальчиком. Он любопытен, но это хорошая черта. А если, моя милая, я еще раз увижу тебя в зале суда с папиросой, ты первая на себе испытаешь, как страшен мой гнев. – Судья повысил голос – скорее для пущего эффекта, чем из желания кого-либо напугать, но все равно стены слегка задрожали.
На лице женщины сменились несколько выражений – одно другого возмущеннее, – но победила дисциплинированность: тетка даже нагнулась и погладила Марека по голове.