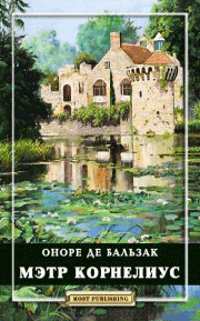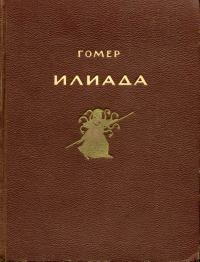Книга День саранчи - Натанаэл Уэст
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Продолжать он не мог и вновь обратился к воображаемой пустыне, где Отчаявшаяся, Убитая горем и остальные все еще складывали его имя. Ракушки у них кончились, и теперь они клали выцветшие фотографии, замусоленные веера, расписания, игральные карты, сломанные игрушки, поддельные драгоценности — хлам, который сделала ценным память — гораздо более ценным, чем все, что можно взять у моря.
Он заглушил свое доброе, отзывчивое сердце смехом, потом достал из мусорной корзины письмо миссис Дойл. И, как розовую палатку, поставил его в пустыне. На фоне стола из черного дерева дешевая бумага заиграла теплыми телесными тонами. Он вообразил миссис Дойл палаткой с волосами и жилками, а себя маломощными мощами, черепом и костями с экслибриса ученого. Когда он запустил скелет в палатку, тот расцвел каждым суставом.
Но, несмотря на эти мысли, он чувствовал себя холодным и сухим, как отполированная кость, и сидел, пытаясь найти моральный аргумент против звонка к миссис Дойл. Если бы он верил в Христа, тогда прелюбодеяние было бы грехом, все стало бы просто, а ответить на письма — легче легкого.
Потерпев в этих поисках полную неудачу, он отправился звонить. Он вышел из редакции б холл, где стояли платные телефоны, потому что по служебным вести частные разговоры не полагалось. Стены кабины были покрыты похабными рисунками. Уставясь на два сиротливых органа, он назвал телефонистке номер Берджес 7-7323.
— Можно миссис Дойл?
— Алло, кто это?
— Мне надо миссис Дойл, — сказал он. — Это миссис Дойл?
— Да, это я. — Голос ее был напряженным, испуганным.
— Это Подруга скорбящих.
— Чья подруга?
— Подруга скорбящих — Подруга скорбящих, я веду колонку в газете.
Он хотел уже повесить трубку, но тут она проворковала:
— А-а, здравствуйте.
— Вы просили позвонить.
— Да, да… что?
Он догадался, что ей неудобно говорить.
— Когда мы можем встретиться?
— Сейчас. — Она все еще ворковала, и он почти ощутил в телефоне ее теплое влажное дыхание.
— Где?
— Решайте.
— Тогда так, — сказал он. — Приходите в сквер, к обелиску, примерно через час.
Он вернулся за стол, дописал статью и пошел в сквер. У обелиска он сел на скамью и стал ждать миссис Дойл. По-прежнему думая о палатке, он окинул взглядом небо и нашел, что оно имеет цвет холстины и плохо натянуто. Он оглядывал небо, как глупый сыщик, пытающийся найти разгадку к собственной бестолковости. Не найдя ничего, он направил наметанный глаз на небоскребы, угрожавшие скверу со всех сторон. В этих тоннах изнасилованного камня и замученной стали он обнаружил то, что ему показалось разгадкой.
Американцы растратили национальную энергию в оргии камнедробления. За короткий свой век они разбили больше камня, чем египтяне при всех фараонах. Они занимались этим истерически, исступленно, словно зная, что в один прекрасный день камни раздробят их самих.
Сыщик увидел, что в сквер вошла крупная женщина и направилась к нему. Он наскоро составил опись: ноги как булавы, груди — аэростаты, лоб голубя. Несмотря на короткую клетчатую юбку, красный свитер, кроличий жакет и вязаный берет, она была похожа на начальника полиции.
Он ждал, чтобы она заговорила первой.
— Подруга скорбящих? Ах, здравствуйте.
— Миссис Дойл? — Он встал и взял ее под руку. На ощупь рука была как бедро.
— Куда мы идем? — спросила она, когда он повел ее прочь.
— Выпить.
— К Дилеханти мне нельзя. Меня там знают.
— Пойдем ко мне.
— А это прилично?
Отвечать было не нужно, потому что она уже шла. Поднимаясь за ней по лестнице своего дома, он наблюдал за работой ее тяжелых окороков: они вращались, как два громадных жернова.
Он разлил виски с содовой и сел рядом с ней на кровать.
— Вы, наверно, знаете женщин насквозь — по вашей работе, — сказала она со вздохом и положила руку ему на колено.
Всегда в роли преследователя выступал он, но теперь ему почему-то было приятно, что роли переменились. Он отстранился, когда она придвинулась для поцелуя. Она схватила его за голову и поцеловала в губы. Сперва тикало, как часы, потом тиканье стало мягче, глуше, перешло в стук сердца. С каждой секундной сердце стучало все чаще и громче. Подруге показалось, что оно сейчас взорвется, и он грубо вырвался.
— Не надо, — взмолилась она.
— Чего не надо?
— Ох, милый, погаси свет.
Он стоял в темноте и курил, слушая, как она раздевается. Это были звуки моря: хлопнуло, как парус; заскрипели канаты; потом, словно волна о причал, шлепнула по телу резина. Ее призыв поторопиться был подобен стону моря, и когда он лег, она вздымалась, как валы, послушные лунной тяге.
Минут через пятнадцать, словно обессиленный пловец из полосы прибоя, он выбрался из постели и рухнул в большое кресло у окна. Она сходила в ванную, вернулась и села к нему на колени.
— Мне стыдно, — сказала она. — Теперь ты не будешь меня уважать.
Он отрицательно помотал головой.
— Муж у меня так себе. Он калека — я тебе писала — и старше меня. — Она засмеялась. — Весь высох. Он уже сколько лет мне не муж. Ты знаешь, моя Люси — не его дочь.
Она ожидала, что он изумится, — он видел это, и заставил себя поднять брови.
— Это длинный рассказ, — продолжала она. — Из-за Люси мне и пришлось за него выйти. Ты, конечно, удивился, как это я — и вышла за калеку. Это — длинный рассказ.
Ее голос гипнотизировал, как тамтам, и был так же монотонен. Его тело и ум одолевала дремота.
— Длинный, длинный рассказ — поэтому я и не могла написать в письме. Я забеременела; мы тогда жили на Центральной улице, а Дойлы — над нами. Я его привечала, ходила с ним в кино, хотя он калека, а я была из первых девушек нашего квартала. Когда я забеременела, я не знала, что делать, и попросила у него денег на аборт. А денег у него не было, и вместо этого мы поженились. А все оттого, что я поверила паршивому итальяшке. Я думала, он джентльмен, а когда попросила его жениться — так он прогнал меня от дверей и даже денег на аборт не дал. Мол, если он даст мне деньги — значит, это от него, а у меня будет за него зацепка. Ну, слыхал ты когда-нибудь про такого подлеца?
— Нет, — ответил он. Жизнь, о которой она рассказывала, была тяжелее даже, чем ее тело. Словно гигантское живое письмо Подруге скорбящих в форме пресс-папье опустилось на его мозг.
— Когда я родила, я написала подлецу, но он даже не ответил, и года два назад я подумала, как это несправедливо, что Люси должна зависеть от калеки, хотя у нее есть все права. Я нашла его фамилию в телефонной книге и повела к нему Люси. Я и ему тогда сказала — что для себя ничего не хочу, а Люси должна иметь то, что ей причитается. Ну, продержал он нас час в прихожей — слышишь, я прямо кипела от злости, когда думала, сколько мыс дочкой терпели от него издевательств, — а потом дворецкий ведет нас в гостиную.