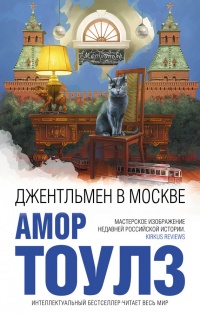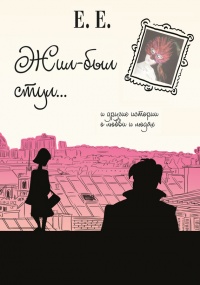Книга Минеральный джаз - Заза Бурчуладзе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Что ему нужно?! — пролепетала Натэла, но, не дождавшись ответа и, возможно, поняв, что сморозила глупость, прибегла было к оправдательному движенью и слову, как Пантелеймон повторным нетерпеливым прижатьем перста к губам опередил ее, призвал к порядку и тишине и с напускным гневом обратил к двери вопрос:
– Кто там?
В ответ раздался нечленораздельный рык.
Ошеломленный, охваченный ужасом человек, что и говорить, порой поступает непредусмотрительно. И то, как поступил ошарашенный Пантелеймон в затруднительное мгновение, ничего общего с предусмотрительностью не обнаруживало. Он обреченно махнул рукой, будто бы горестно соглашаясь с неотвратимым, и… ни больше, ни меньше, как широко распахнул входную дверь! В мгновение ока, сообразившись с обстоятельствами, ввиду того, что вознамерился спроворить Пантелеймон, Натэла торопливо, но истово перекрестилась и внутренне приготовилась к любым испытаниям. Ее рука потянулась вверх и прикрыла уста, как бы уберегая их от того, чтоб в острейший момент предполагаемого испытания они не отверзлись и не покрыли ее позором трусливого малодушия.
Не менее, нежели ошеломленное им семейство, удивленный медведь танцующим шагом перевалился через порог. Пантелеймон и Натэла отпрянули к стене и уступили ему дорогу. Негодник и впрямь был устрашающе мощен и грузен — как звезда или даже как созвездие Большой Медведицы. И вот циклопический сей голиаф громоздится посреди тесноватой передней и жмется и пригибается от опасения смахнуть с потолка абажур. Как непомерный детина раскачивается из стороны в сторону, не отрывает ока от сбившихся в кучу Очигава, все крепче прижимает к груди свою трубку и трефового короля, все больше входит во вкус, убеждается, что трясущиеся хозяева не собираются гнать его прочь, преисполняется благодарности за это подтанцовке при входе и пускается во все тяжкие. От ритмичной раскачки переключается на затейливые круговые припляски, а от них к вольной, плавной, раздольной удали. По свидетельству перипатетика Дикеарха, подобный вид танца в Дельфах называли «геранос».
Нужно ли удостоверять вас, господа, что зевота, смешок, самоубийство и танец невероятно заразительны? Так вот все Очигава поддались сей притягательности, испытали на себе ее натиск, и в момент, когда мишка пустился вприсядку, Пантелеймон нажал на выключатель, в передней вспыхнул яркий свет, Натэла гикнула: «Гип-гоп-гоп!», Евгения выпростала из-под накинутого на плечи платка оливковую ветвь, метнула ее к ногам плясуна и пропела: «Яю, яю, яю, яю, я в деревню уезжаю», не уточнив, впрочем, какого ей там надобно черта.
Следует, правда, констатировать, что никто и не рвался выяснять это обстоятельство. Зажигательный внезапный демарш Жени сорвал с места перетрухнувший было хоровод, погнал его в пляс вслед за мишкой, и в мгновение ока все запело, закружилось, захлопало, будто только и ждало побудительной масличной ветви. Не вызывает ни капли сомнения, что если вы со всей свойственной вам изворотливостью вчитаетесь в предшествовавшее сему предложение, то наверняка моментально уловите в нем чрезвычайно многозначительный мотивчик, заимствованный не откуда-то там, а прямиком из «Вестсайдской истории». Как в сем кинофильме, так и в доме у Очигава все и вся пришло в движение и звучание. Все кружатся, кружатся, пляшут. И Евгения с ними. Потеха! Абажур пошел ходуном, плафон на стене задребезжал всеми подвесками, из груди Пантелеймона вырвались непроизвольные стоны: аугугуу, методично повторявшиеся и уже не умолкавшие, сам он шел, как ему воображалось, шаг в шаг за мишкой, а на самом деле лягался и отбрыкивался, как осел. Натэла взвизгивала свой «гоп, а, гоп, а!» и, раскинувши длани, норовила подлететь ближе к зверю, но, к досаде, всякий раз натыкалась на жесткую спину Пантелеймона и никак не могла увильнуть от нее. Евгения тянула свое «яю, яю», при сем натягивая углы платка таким особым манером, будто хотела убедить присутствующих, что она не что иное, как летучая мышь. А в озорницу Пепо, прикольнейшую из телок, по милости доселе неслыханной и не подозреваемой в старших прыти, просто вселился бес, окончательно охмурил и свел ее с не Бог весть какого умишки, пустил в такую присядку и подвиг на такие коленца, сопутствуемые метанием искр из глаз, будто нынешний владелец ее душеньки не просто чертенок, а сама верховная нечистая сила, сатана или, по меньшей мере, его правая рука — адмирал адских военно-морских сил.
Очигава с медведем кружатся в пляске, а Шамугиа ерзает в кресле, точней сказать, на гвоздях или колючках, в нетерпении ожидая от Фоко раскрытия тайны сокрытого и выведенья на Божий свет забившегося в темные извилины бездонных недр прошлого и заключенного в нем ответа. На шее его красуется спасательный круг (втесавшийся в текст и надоевший до чертиков. Бьюсь об заклад, вы полагаете, что это за блажь спасательный круг на шее у персонажа, круг, в конце концов, хоть и спасательный, это круг, а у круга нет ничего общего ни с наградным крестом или орденом, ни с талисманом или амулетом, и, как из сего вытекает, нет ни малейшей необходимости вешать и таскать его на вые. Осторожней, однако, господа, не торопитесь, голубчики, — когда вы смилуетесь и сохраните тишину и смирение, то вам же самим будет лучше и благолепнее, я же тем временем вскользь коснусь одного своего наблюдения: спасательный круг связан с талисманом и амулетом кровью и плотью. Точней они сами своего рода кружки, кружочки и предназначены для охраненья душевного покоя, защиты от тьмы, спасенья от пагубы и отчаяния, уклоненья от сглаза, скорей, надо думать, символическое, от того, что, как вам и всем ведомо, у кого что на роду написано, от того не уведут ни талисман с амулетом, ниже железные онучи странника и паломника, паче же когда кто наделен одними лишь ими и ничем, совсем ничем более. Надо признать между тем, что спасательному кругу по силам уберечь хотя бы от утопания. Ну, так при том, что ему, кругу, удалось урезонить расходившиеся нервы Шамугиа, пусть висит себе у него на шее, и полно нам о нем распространяться. Если вас шокирует именно это, именно то, что он свисает у него с шеи, то, помилуйте, могу ли я вам в чем отказать, переложите круг следователю на колени, ничего от этого не убудет), беспокойными пальцами он терзает края целлофанового пакета с посиневшим, чуть уже не почерневшим запястьем и умоляюще вглядывается прямо в глаза Фоко. Точней в дыры, где у всех расположены органы зрения, а у Фоко фарфоровые шарики размером с персиковые косточки с нарисованными на них зрачками. О-о, тут приходит на память очень давняя история…
…Фоко была едва вершок от земли, когда родная матушка ее, торговка семечками Гуло, собственными своими руками выцарапала ей оба живые глаза. Девчонке довольно было бросить на кого беглый взгляд, как уста ее мгновенно выкладывали все, что отягчало или могло отягчить в ближайшем или отдаленном будущем его душу или карман и всю вообще подноготную, кем кто был, что являл и что еще явит собой. Короче, рентгеновский аппарат не видел столь глубоко, сколько пророческие глазки малышки Фоко. Глазки и впрямь были умопомрачительными и ошеломительными, более того, отклоняясь от восторженных чувств и эмоций, провидящими и пронзительными, все и вся проницающими насквозь. Их довольно бывало чуть-чуть поднять, чтоб попавший в полосу обозрения застыл и замер на месте. И не успевал додумать, придать чему-то обдумываемому хоть какую, завалящую, форму, как Фоко уже настигала, ввинчивалась, внедрялась, вытягивала затаенные в самых глубинных закоулках души помыслы, оценки и намерения. И затейливо, с вывертами, так, что не тотчас поймешь, о чем пошла речь, предавала огласке. Точней по сумбурности, по невнятице ее изъяснения невозможно бывало вообразить, чтоб сама она осознавала смысл хоть единого проговариваемого слова. Этак сыпать прорицаниями, расточать предвестия и предвидения не по плечу не одним только детям, но порой даже и взрослым. Пробормочет, к примеру, «сейчас сорвется звезда», и последняя впрямь, не успеет пророчица добормотать, срывается — и не все одно с чего — с неба ли, с новогодней елки или совсем уж с чеканного герба СССР где-нибудь в домоуправлении. Главное, что непременно, точней без всякой на то причины, но срывается. Или походя, ненароком, стоя цаплей на одной ножке в ячейке расчерченных на асфальте классиков, бросит вдруг, что сейчас, мол, «возникнет стихотворение», и, каким бы сие не показалось поразительным, какой-нибудь оболтус из окрестных домов усилит, будто по уговору, звук радиоприемника или громкоговорителя, и из него по всей округе польются строки стихов. О, в те времена по радио читалось много, можно даже сказать избыточно, стихов и поэм. Ну, Гуф или Джеронимо[4]тогда, ясно, не читали, зато были Владимир Маяковский и Галактион Табидзе, точней никого, кроме последних, не было и в помине, а еще точней сии Володя и Гала и являли собой тогдашних Гуф и Джеронимо. Или — отвлечемся от поэзии и отставим ее в сторону — случилось раз, что Фоко протерла вдруг ночью глаза, подскочила в постели, вскрикнула: «Сейчас увезут на тележке Пашу» и не успела докрикнуть, как во двор со зловещим скрежетом вкатился черный «ЗиС».