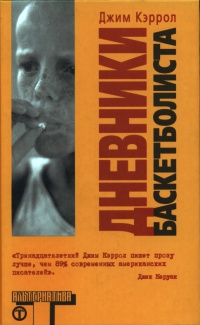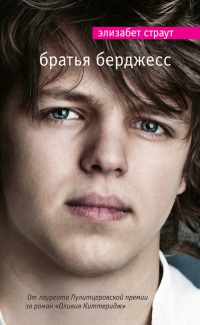Книга Везунчик Джим - Кингсли Эмис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Все было бы замечательно, если бы только я знал, что могу не волноваться за свое будущее.
Уэлч медленно поднял голову, словно дуло гаубицы старого образца. В районе бровей уже зарождалась гримаса святого недоумения.
— Диксон, я не вполне понимаю, о чем вы.
— О моем испытательном сроке, — громко сказал Диксон.
Гримаса разгладилась.
— Ах, об этом. Ваш испытательный срок, Диксон, рассчитан на два года, а не на один. Все в контракте зафиксировано. Почитайте, если забыли.
— Да, я знаю, что два года. Но ведь это всего-навсего означает, что до истечения этого срока меня нельзя брать в штат. Никаких гарантий, что меня нельзя… нельзя попросить уйти в конце первого учебного года.
— О нет, — с теплотою произнес Уэлч. — Нет. — И оставил свое «нет» висеть в воздухе, и непонятно было, то ли это «нет, нельзя», то ли «нет, вы не правы».
— Меня ведь могут попросить уйти в конце первого учебного года? Ведь могут, Профессор? — быстро проговорил Диксон, вжавшись в спинку стула.
— Полагаю, да, — отвечал Уэлч, на этот раз холодно, будто от него потребовали уступки общественному мнению, теоретически хотя и возможной, но из тех, о которых порядочные люди и не помышляют.
— Я просто хотел узнать, как решится моя судьба, только и всего.
— Что вполне объяснимо, — также холодно отрезал Уэлч.
Диксон ждал — и прикидывал, какие гримасы подойдут к ситуации. Он оглядел «кабинетец» — приличный ковер, устаревшие учебники, шкафы с древними экзаменационными работами и личными делами не одного поколения студентов, залитые солнцем стены физической лаборатории, на которую выходят задраенные окна. За спиной Уэлча висело ведомственное расписание: Уэлч сам чертил, пятью разноцветными чернилами, для каждого преподавателя с исторической кафедры — свой цвет. Увиденное прорвало плотину в сознании: впервые с момента поступления на работу Диксон испытал приступ всепоглощающей, без примесей, оргиастической тоски и ее вечной спутницы — столь же всепоглощающей ненависти. Если бы Уэлч в следующие пять секунд не заговорил, Диксон сделал бы что-нибудь такое, отчего вылетел бы без дальнейших вопросов. Нет, о прошлых мечтах речь не шла. Диксону уже не хотелось, как раньше, когда он сидел за стеной и прикидывался, что работает, вклинить в расписание лаконичный «отчетец» с равномерными вкраплениями непечатных слов и собственным мнением о Профессоре истории, кафедре исторических наук, истории Средних веков, истории в целом, а заодно и о Маргарет, и вывесить расписание, улучшенное и дополненное, в окне, к сведению студентов и преподавателей. Пропало желание хватать Уэлча, привязывать к стулу и бутылкой колотить по темени и плечам, пока не признается, какого черта, не будучи французом, дал сыновьям французские имена… Нет, теперь Диксон просто сказал бы, негромко, спокойно и с расстановкой, чтобы донести основной посыл: «Послушай, ты, старый хрущ, в каком тебе страшном сне приснилось, будто ты можешь руководить кафедрой истории, хотя бы и в этом отстойнике? Что, хрущ, затрудняешься ответить? А сказать тебе, в чем твое истинное предназначение? Сказать, старый хрущ?..»
— Видите ли, Диксон, вопрос куда серьезнее, нежели вам могло показаться, — внезапно произнес Уэлч. — Очень, очень непростой, многоплановый вопрос. Требуется учитывать огромное количество факторов.
— Конечно, Профессор, я понимаю. Я всего лишь хотел спросить, когда ждать решения, не более. Ведь если мне придется уйти, только справедливо будет уведомить меня как можно раньше. — От ярости у Диксона даже голова затряслась.
Взгляд Уэлча, уже два-три раза скользнувший по Диксону, упал на стол, на сложенное пополам письмо.
— Да… пожалуй… вы правы, — завел Уэлч.
Диксон продолжал на полтона выше:
— Мне ведь тогда придется искать другую работу. А в большинстве учебных заведений штаты набирают еще до июля. Вот зачем мне нужно знать заранее.
На лице Уэлча угнездилось страдальческое выражение. Сначала Диксон ему обрадовался — значит, тот еще в принципе способен реагировать на внешние раздражители. Затем, на секунду, почувствовал угрызения совести — решил, что Уэлч не хочет открыть правду, поскольку боится причинить ему боль; напоследок Диксона охватила паника. Что стоит за этим запирательством? Ясно как день: увольнение. Ладно; по крайней мере Диксон выскажется о хруще; аудитория, правда, могла бы быть и пообширнее.
— Как только вопрос решится, я вам сообщу, — скороговоркой выдал Уэлч. — Пока ничего не ясно.
Диксон не нашелся что ответить. Вообразил, будто сумеет назвать Уэлча старым хрущом. Размечтался. Кишка у вас тонка, мистер Диксон. Ни Уэлчу, ни Маргарет вы никогда правды о них не откроете. Пока вы, многоуважаемый Диксон, полагали, что умело подводите Уэлча к мысли о вашем испытательном сроке, Уэлч применял к вам прием уклонения; правда, обычно прием этот у него физический, а не вербальный, но и вербальный рассчитан выдерживать давление такой мощности, какая вам и не снилась.
Наконец Уэлч сделал то, чего давно ждал от него Диксон, — достал носовой платок. Было ясно: Уэлч намерен высморкаться. Акт сам по себе кошмарный, и ладно бы только потому, что заставляет без надобности смотреть на его нос, огромный пористый тетраэдр. Однако сегодня от неестественно затяжного рева сотрясались стены и оконные рамы, но отнюдь не нервная система Диксона. Напротив: рев кардинально поменял его настроение. Всякое заявление, могущее быть выбитым из Уэлча, неизменно соответствовало истине; значит, Диксон теперь там, откуда начал. И как же славно вернуться в обжитой исходный пункт, а не топтаться перед дверью, открывать которую нет ни малейшего желания. И кто это придумал, что лучше заранее знать самое худшее, — мол, чем раньше узнаешь, тем скорее начнешь искать выход. Лукавил он, ох лукавил; этакий кружной путь изобрел. Дескать, скажите мне, доктор, всю правду (я ведь и так скоро выясню), но лишь в том случае скажите, если эта правда мне понравится.
Убедившись, что Уэлч высморкался, Диксон встал и почти искренне поблагодарил за беседу; даже «рюкзачишко» и зюйдвестка, обыкновенно вызывавшие приступ бешенства, на сей раз вызвали только исполнение «песенки про Уэлча» по выходе из «кабинетца». Песенка была вдохновлена одним «рондо» из тоскливого фортепьянного концерта. Уэлч однажды заставил Диксона не только прослушать его весь от начала до конца, но еще и пластинки менять на своем допотопном граммофоне. Пластинок оказалось четыре штуки, все двусторонние и с красной фирменной наклейкой. Слова пришли Диксону потом. Диксон спускался в преподавательскую, где уже можно было пить кофе, и, не разжимая губ, проговаривал: «Прокисшее тесто мозгов у нас вместо…» Далее шел ряд нецензурных слов — Диксон заменял их звуками воображаемых труб и литавр. «Немазаный робот, на заднице хобот…» Труднодоступность последней метафоры для свежего уха Диксона не смущала — он имел в виду блок-флейту, а широкой аудитории послушать «рондо» все равно не грозит.
Шла сессия; Диксону всех и дел было, что завернуть в половине первого в конференц-зал и собрать экзаменационные работы. В них, по всей вероятности, будут ответы на его вопросы о Средних веках. Дайджест последних Диксон осуществлял на подступах к преподавательской. Всякому, кто не способен поверить в прогресс, следовало бы почитать про Средние века — глядишь, и взбодрится. Студенты же взбадриваются перед экзаменом (по крайней мере предполагается, что взбадриваются). Водородная бомба, южноафриканское правительство, Чан Кайши, сенатор Маккарти собственной персоной покажутся смешной платой за то, что Средние века наконец позади. Были ли люди когда-либо столь отвратительны, зависимы от своих желаний, глупы, жалки, самоуверенны, слабы в изобразительном искусстве, удручающе нелепы и несправедливы, как в Средненькие века (Средненькими их любила называть Маргарет)? От заключительной мысли Диксон даже заулыбался, но прекратил это занятие на пороге преподавательской, ибо там, бледная, с синевою под глазами, у камина сидела в одиночестве сама Маргарет.