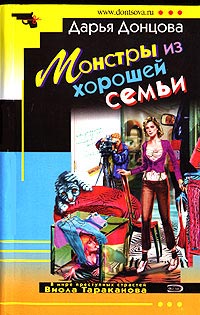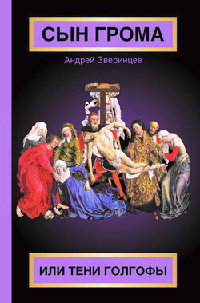Книга Книга Бекерсона - Герхард Келлинг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда она пришла, случилось небольшое происшествие: раздавшийся едва слышный сигнал тревоги заставил его поволноваться. Дело в том, что входная дверь оказалась запертой на ключ. Бедная Лючия перепугалась, решив, что его нет дома… Нет, он был внутри, а ключ повернул в замке лишь безопасности ради, наверное, поскольку находился в чужой квартире. Когда все выяснилось, Лючия улыбнулась и успокоилась. Сбросив пальто, она прошла в кухню, потому что купила кое-что из продуктов. Когда он стал к ней немного приставать, Лючия оттолкнула его от себя. За ужином при свечах они пили и разговаривали о том, как прошел день для нее и для него. Беседа в нейтральных тонах, как пристало старым добрым знакомым. И лишь потом, когда все убрали со стола, в их глазах засветилась прежняя чувственность, как мостик к возобновлению того, что было между ними. И тут он снова ощутил дистанцию и напряженность.
Потом она встала и вышла из комнаты. На некоторое время в маленькой квартире воцарилось молчание. Чуть позже он заговорил о книге, книге Кремера, которую увидел здесь у нее. Поинтересовался, читала ли она уже эту книгу? Вдруг ему все стало ясно — понятно по взгляду, что с ним, с Кремером, она была знакома и, возможно, имела какие-то отношения.
Он спросил ее и об этом. После короткого раздумья она сказала, что это совсем не важно, все давно в прошлом и даже воспоминания почти стерлись. Правда, заметила, кое-что действительно было — почему? — да просто это было прекрасно! Нет, с той поры уже ничего не осталось. Заклиная все, что было в прошлом, она слишком уж рьяно оправдывалась, а он делал вид, что не понимает, и продолжал ее мучить своими вопросами о ревности и подозрениях, пока они снова не слились в объятиях в теплой, погрузившейся в темноту квартире. Свет в комнату попадал лишь от наружного уличного освещения. На этот раз она была еще мягче, может быть, под впечатлением произошедшего спора — этого первого спора, который всегда был самым скверным, — еще податливее, а он еще более отстраненно наблюдал за тем, как она буквально теснила его, давила, словно сама попала в беду, как в отчаянии обвивала его руками, прижимаясь к нему щекой, залитой слезами. Но когда он тихо спросил ее, почему она сейчас плачет — почему же ты плачешь? — ответа не последовало. Вскоре после этого он ощутил такую бесконечную скуку, такое вдруг нахлынувшее на него отвращение, что был готов встать и уйти.
Наблюдая за тем, как он одевается, она очень спокойно и сосредоточенно спросила, вернется ли он к ней: ты вернешься? Он не ответил утвердительно, лишь продолжал молча одеваться.
Очень бледная и спокойная, но все-таки чуточку жалкая, она стояла перед ним в ночной рубашке, стараясь поймать пучком своих волос его взгляд. Ему требовалось отвести душу, требовалось пространство! Вначале надо было поспать дома у себя, как он сказал: у него есть работа, сейчас для него это важно; затем она, сохраняя спокойствие, заметила, что он в любое время может к ней вернуться; пусть помнит об этом и пусть оставит себе ключ.
Затем он, облегченно вздохнув и придя в себя, словно освободившись (только вот уместно спросить — от чего?), отправился по ночным улицам, прочь, только прочь отсюда, снова прочь! Неподалеку от вокзала он погрузился в другую жизнь, в ночную жизнь дна, в эрзац-среду тех, к кому он подсел, в случайное обиталище людей, похожих на муравьев. При этом он подумал о каком-то возмещении, поверив вдруг в то, что все так или иначе устроится должным образом. Какой-то завсегдатай ночлежки в четыре часа утра рассказывал о своей пропащей жизни, состоявшей не столько из традиционных очевидных, сколько из недавних фактов. Странный, набивавшийся ему в друзья, судя по всему, безвольный тип, который распространялся на тему о пытках, кандалах и кнуте и который, если он его правильно понял, с этими атрибутами являлся к желающим по месту их жительства и за деньги устраивал им наказание, причем однажды уже был случай, но не в связи с ним, когда некто, как он выразился, перешел границу. Правда, было неясно, чем закончится этот разговор, поэтому он, Левинсон, решил поберечься и при первом удобном случае покинул своего свежеиспеченного знакомого… Если этот рассказ имел своей целью добиться его, Левинсона, дружеского расположения и сочувствия, то в итоге он вызвал в нем скорее озноб, натуральный в силу биологической сущности, просто космический холод, словно сознавая, что в окружающем пространстве жутко холодно, что за пределами несущих тепло слоев атмосферы жизнь невозможна, что там царят тишина и безвоздушное пространство, повернутость или пустота, на фоне которых поражавшее своей свежестью звездное зимнее небо Гамбурга казалось прямо-таки близким и родным.
Погруженный в эти мысли, слегка покачиваясь, он направился ранним утром домой — по припорошенным улицам, мимо домов с ледяными узорами на окнах, в тумане, поднимающемся от земли. Он шел среди снежной тишины, в которой были едва слышны его собственные шаги; казалось, даже запущенные для прогрева двигатели автомобилей не ревели, а издавали какой-то приглушенный звук. Первые утренние пешеходы встречались ему, каждый шел сам по себе, устремив взгляд прямо перед собой, как животное. Пока он добирался до своей улицы, ему почти никто не встретился. Только на лестничной клетке послышался какой-то трескучий шорох: вот и они, вдруг пронеслось у него в голове, и пульс лихорадочно забился. Однако никто не появился, никто от него ничего не хотел, он тихо прошмыгнул наверх, отпер дверь и, войдя в квартиру, снова запер ее за собой, после чего еще долго стоял в темной прихожей… но и потом не стал включать свет. Он уселся в кресло перед окном, устремив взгляд в темноту, на утреннюю улицу, на первые засветившиеся окна, на новую жизнь на той стороне, жизнь, которая текла не так, как его, по другим законам и в другом режиме времени, на мужчин, женщин и детей, охваченных этим доминирующим ритмом. Он даже испытал почти сочувствие, не понимая к кому — к себе или к ним? Он долго сидел под шерстяным одеялом в кресле, пока постепенно все видения не исчезли, но он продолжал сидеть неподвижно, гордясь, что сидит именно там, а не где-нибудь еще, что когда-то родился, что сейчас оказался здесь и что никого рядом с ним нет. Потом он заснул и проспал до тех пор, пока вдруг не зазвонил телефон. Но он не стал поднимать трубку.
Потом в его сознание ворвались сны, которые он записал на следующий день, по этой причине они до сих пор отложились в его памяти: из какого-то бетонного строения, где он хотел спрятаться, потому как за ним гнались преследователи… И каждый раз, когда он сворачивал, пытаясь уйти от них, те все решительнее приближались к нему, пока он не добрался до самой верхней платформы, возвышавшейся над прочими, в безнадежном положении… Он взбегал наверх этаж за этажом, через строительный мусор, какие-то недоделанные лестницы без перил, однако преследователи вылезали из всех углов, неизменно оказываясь там, где ему еще только предстояло появиться. И вот с самого верха, куда он уже не мог добраться, ему издевательски дали понять: игра проиграна, надо бы сохранять спокойствие, все равно его столкнут с лестницы, но вначале хотят еще насладиться его испугом… затем вся банда под душераздирающее улюлюканье унеслась прямо у него из-под носа, женщины демонстрировали ему свои обнаженные груди, мужчины, ухмыляясь, выказывали непотребные места, а причудливая пара имитировала коитус под смех, крики и рукоплескания: столкни его, столкни его вниз, испытывая при этом какое-то безумное удовольствие: столкни его! Он смотрел на них — одичавшие уродливые твари обоего пола, эксгибиционисты в полувозбужденном состоянии, проститутки в ярких набедренных повязках, которые похотливо, изрыгая какой-то вонючий запах, показывали ему свои языки… Предложение было сделано: ему гарантирована пощада, если он ответит, отреагирует, чтобы получить свою долю потехи, или его принесут в жертву! Он действительно пытался делать вид, что смеется вместе со всеми, словно получил свою долю развлечения, что их вовсе не убедило. Потом он еще спросил, зачем им это надо, в ответ на что особо значимая личность в духе собственной позиции определила это как наглость, плюнула ему в лицо и грязно обругала. Затем все снова сошлись, но в итоге вместо того, чтобы столкнуть его вниз, разразились жутким отвратительным хохотом. Он проснулся в поту. В тот же миг опять зазвонил телефон, на этот раз он снял трубку. Никто не ответил. Лишь позже ему подумалось, что эти звонки, вероятно, исходили от них, что им, наверное, хотелось знать, дома он или нет. В полдень он сидел у себя на кухне, завтракал и смотрел в окно. На улице было безлюдно, пустые оконные глазницы, девушка не танцевала в квартире напротив, груша выглядела как высохший скелет. Потом в дверь позвонил почтальон, и на пол упал конверт, почтовый конверт без указания отправителя. Он не без колебания повертел его в руках и засунул в нагрудный карман пиджака. Тогда вся его жизнь втиснулась в несколько дней. По сути дела, он не знал, как жить дальше или как он должен был жить. Он знал лишь одно: острота и точность восприятия — переживания, инородность и Лючия, — соединились в единое целое, а всего несколько дней складывались в целую жизнь.