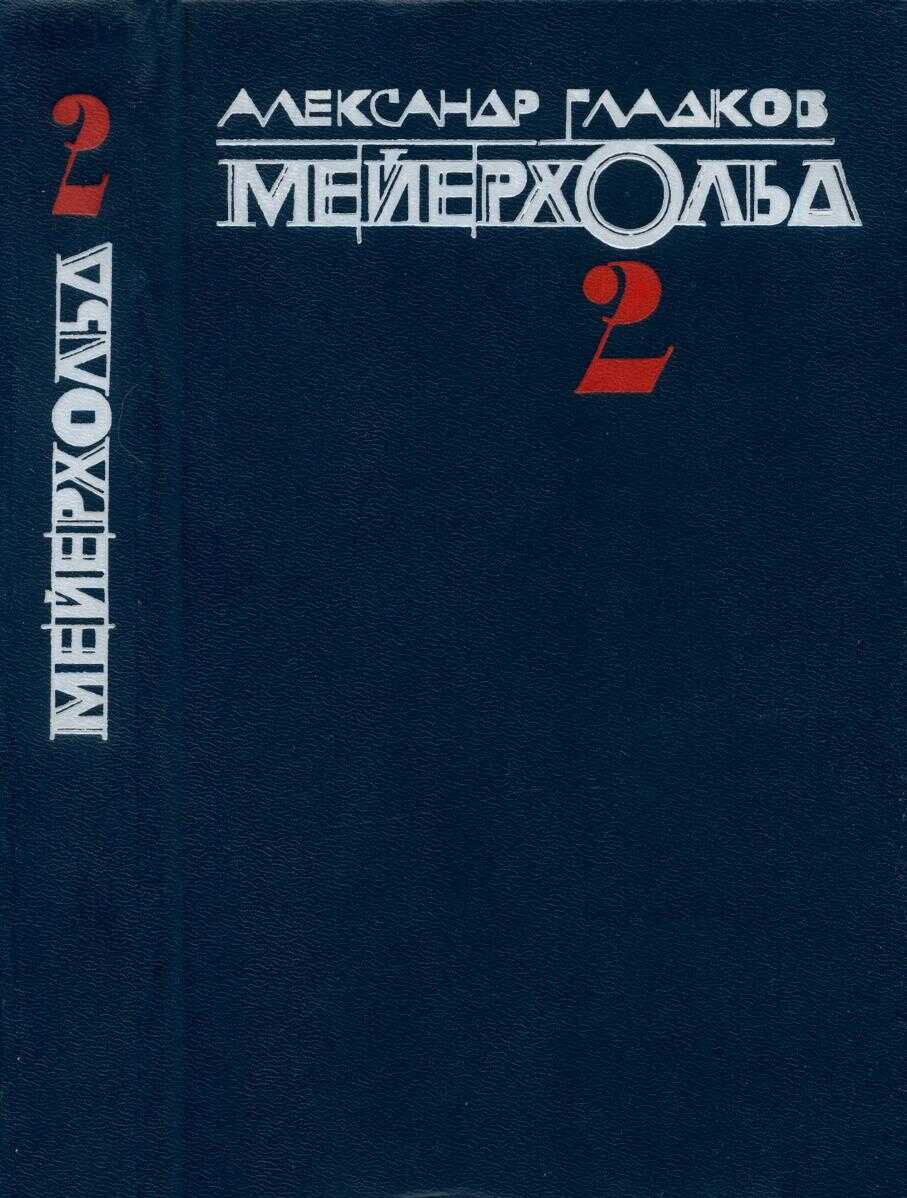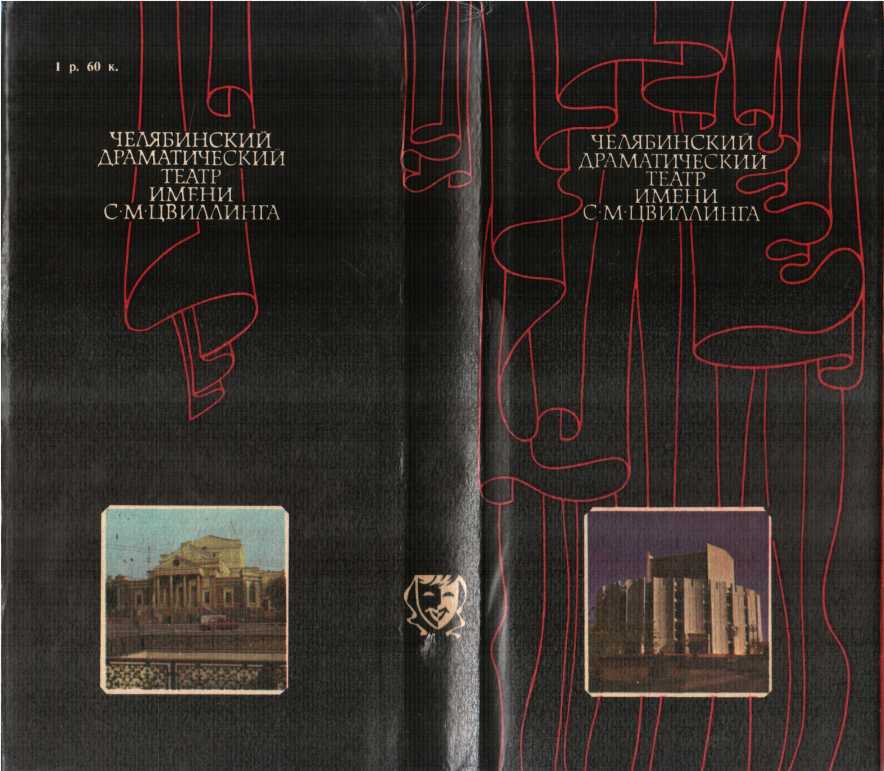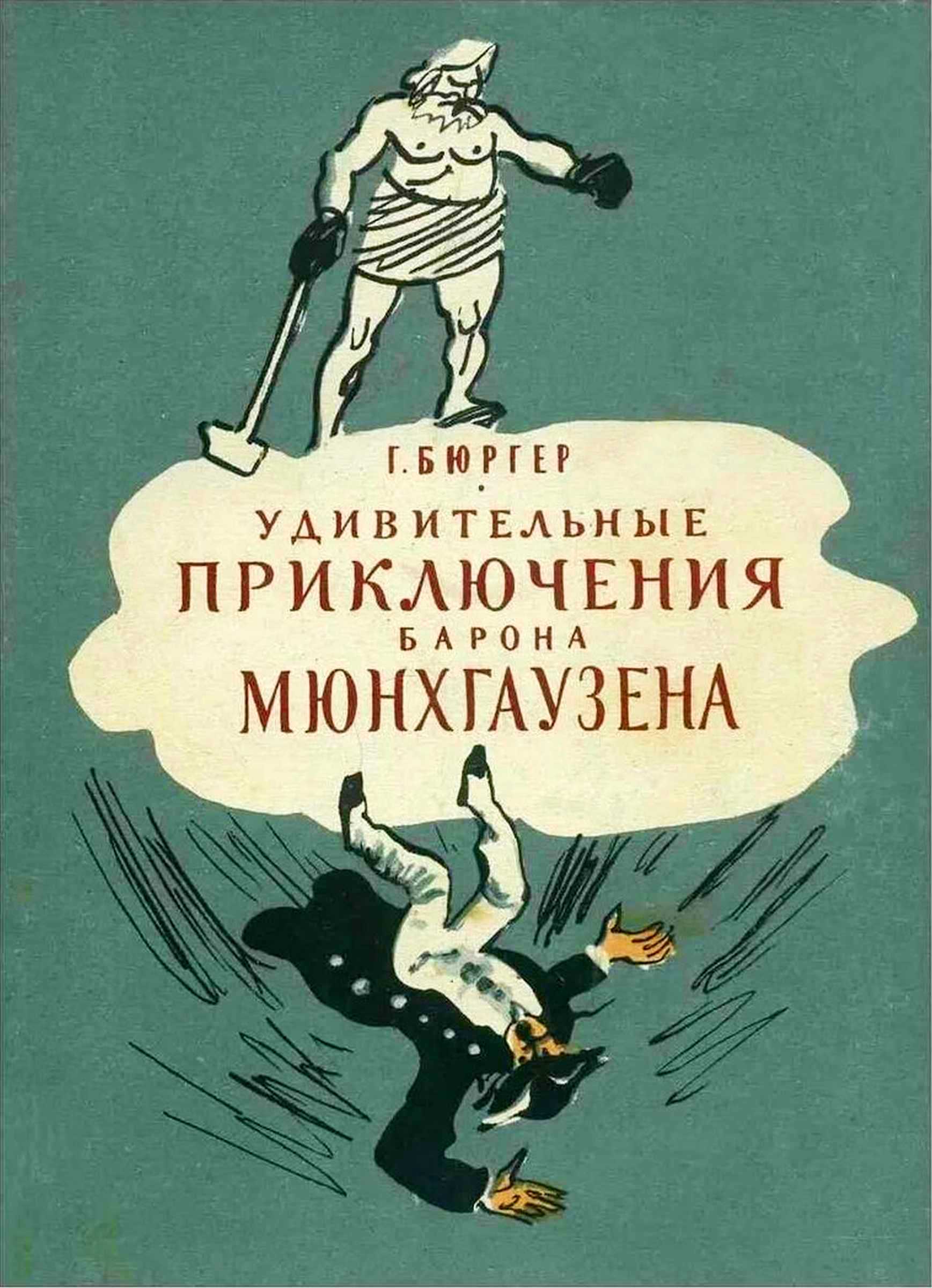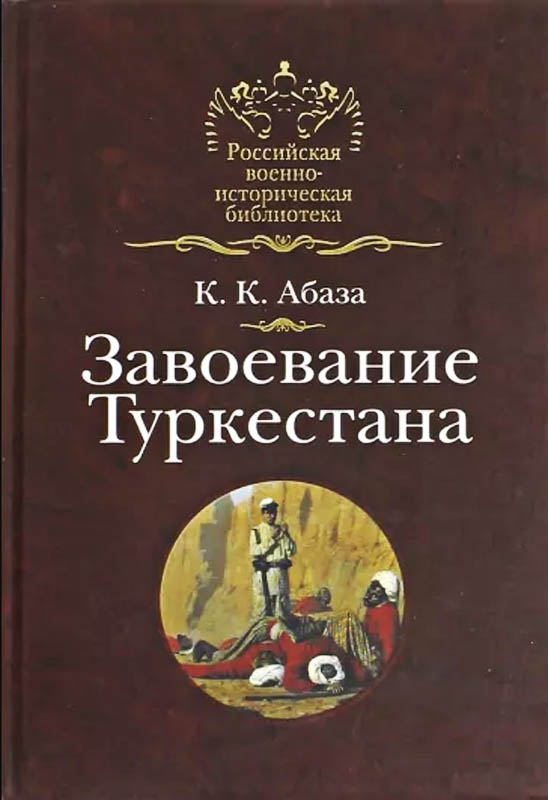Книга Мейерхольд. Том 1. Годы учения Влеволода Мейерхольда. «Горе уму» и Чацкий - Гарин - Александр Константинович Гладков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мемуарист вспоминает: «К бенефисам своих любимцев театральная Москва готовилась как к особому торжеству: это было большим событием. Задолго хлопотали, чтобы обеспечить себя билетами, которые обыкновенно расписывались на квартире бенефицианта. Шла подписка на подарок, составлялись адреса, собирались подписи и т. д. Наконец наступал и день праздника. В окнах цветочного магазина на Петровке, — того самого, куда, по Сухово-Кобылину, Кречинский посылал Расплюева за букетом для своей невесты, <…> — с утра выставлялись всевозможные букеты, лавровые венки с лестными надписями на лентах, ценные подарки на цветочных плато, предназначенных для подношения бенефицианту. Многие театралы паломничали к окнам этого магазина, интересуясь бенефисными трофеями виновника торжества. <…>
А вечером?! Зрительный зал заполнялся раньше обычного. Приподнятое, праздничное настроение, оживление, сияющие лица, говор, гул… <…>
Я уже не говорю о галерке: там бывало как «под светлый праздник»! <…>
Но вот начинается и самое торжество. Вступает оркестр (тогда еще играл оркестр перед началом и в антрактах). Однако оркестра почти не слышно, — его заглушает общий говор; у всех напряженное ожидание… Сцены до появления бенефицианта слушаются без должного внимания: все ждут появления виновника или виновницы торжества. Наконец выходит на сцену и сам герой вечера. Его встречает буря аплодисментов, которые идут crescendo и постепенно переходят в общий гул и громкие выклики фамилии артиста. Многие стучат ногами, машут платками. Из боковых лож на сцену летят букетики живых цветов и маленькие лавровые веночки и застилают всю сцену, так что по ней неудобно ходить. Аплодисменты то как будто затихают, то возобновляются с новой силой. Бенефицианту долго приходится раскланиваться, отходить от рампы в глубь сцены и снова подходить, посылать публике приветственные жесты или воздушные поцелуи.
И так в продолжение всего спектакля после каждой сцены или отдельного монолога, не говоря уж об антракте… Овации, подношения, бесконечные вызовы… В антрактах многие стремятся проникнуть за кулисы, чтобы достать на память лично от бенефицианта, а то через кого-нибудь цветочек или листок от лаврового венка. <…> После спектакля — обязательные проводы бенефицианта у подъезда: здесь собиралась молодежь и приветствовала своих любимцев»[3].
И так же и в Пензе, и по всей России, но в Москве в удесятеренном масштабе. Это было выражением настоящего культа театра и актера, культа заразительного, опьяняющего, казавшегося чем-то волшебным.
Несмотря на все старания, Мейерхольду не удается достать билет, и места у «трубы» тоже уже давно распределены. С однокурсником Лисицким, таким же сумасшедшим театралом, как и он сам, он проникает в театр «зайцем». Но из всего спектакля они видят только первый выход Ермоловой и Южина в главной пьесе бенефисного спектакля в переводной драме X. Эчегарая «Марианна»…
«Видели, как Ермоловой подносили тьму цветов, слышали две-три фразы из чудных уст ее, а затем… увы, кроме борьбы и протестов полицмейстера театров — ни черта», — пишет Мейерхольд в Пензу.
Безбилетников вывели. Но друзья не унывают и отправляются досматривать «Марианну», когда она идет во второй раз. Мейерхольд записывает о «замечательном наслаждении». И вновь самостоятельное суждение: театральная критика напала на пьесу, а ему она нравится.
И, наконец, знаменательный вечер! 29 января Мейерхольд впервые попадает в Охотничий клуб, где раз в неделю играет труппа любителей, возглавляемая уже известным любителем — актером и режиссером К. С. Станиславским (Алексеевым). Идет «Отелло».
…Поднялся занавес, и одновременно раздался отдаленный бой башенных часов. Послышался плеск воды. Плыла гондола. Она остановилась, и загремела цепь, которой ее привязывают к раскрашенной свае. Отелло и Яго начинали свою сцену сидя в плавно покачивающейся гондоле, затем выходили из нее под колоннаду дома — точную копию венецианского Палаццо дожей…
Точность и убедительность всех этих деталей была новинкой в театре — для Мейерхольда во всяком случае. Рядом с ним шептались знатоки, вспоминая спектакли «мейнингенцев» — немецкого новаторского театра, приезжавшего в Москву на гастроли лет шесть назад и поразившего зрителей археологически-музейной тщательностью воспроизведения внешней обстановки, но Мейерхольд только читал о них, и все, что он видит, ошеломляет его.
А сам Отелло! Стройный мавр с порывистыми и быстрыми поворотами головы, движениями рук и тела, точно у насторожившейся лани; плавная царственная поступь и плоские кисти рук, обращенные ладонями в сторону собеседника. Как это непохоже на привычную аффектированную театральную фигуру с чарами оперного баритона. А голос — низкий, певучий.
Вот сцена в сенате. Сенаторы сидят в черных масках. Наглядевшийся на множество репродукций, Мейерхольд оценивает верность этой реальной исторической подробности, но так никогда не играли эту сцену. Казалось бы, маски должны скрадывать выразительность лиц, но она, наоборот, выигрывает от этого зловещего и загадочного однообразия. Начинается знаменитый рассказ Отелло. Как же произносит его Станиславский? Никак. Он просто рассказывает, и этот простой безыскусный тон взволнованного мавра и неподвижные лица в масках создают контраст человечности и закона, души и ритуала.
Мейерхольд давно знает наизусть этот монолог, но ему кажется, что он слышит его впервые. Что это? Другой перевод?
Нет, и перевод ему известен. До сознания доходят знакомые слова, но у Станиславского это другие, новые, его собственные слова.
Это первая встреча — пока еще через линию рампы — с человеком, оказавшим на него самое большое влияние в жизни: с будущим учителем, другом, антагонистом, антиподом, соратником, товарищем…
Пусть он еще сам не знает, что ему делать с собой, но вкус его уже зрел, тонок и безошибочно точен. В этот морозный январский вечер он уходит из Охотничьего клуба восхищенным, взволнованным, плененным.
«От спектакля Общества искусства и литературы получил большое наслаждение. Станиславский крупный талант. Такого Отелло я не видел, да вряд ли когда-нибудь в России увижу. В этой роли я видел Вехтера и Россова. При воспоминании об их исполнении краснеешь за них. Ансамбль — роскошь. Действительно, каждый из толпы живет на сцене. Обстановка роскошная».
Но он остается собой и восторгаясь. Как всегда, с ним его второе «я» — трезвый критик: «Исполнители других ролей довольно слабы. Впрочем, Дездемона выделялась».
Представим долговязого, худого студента с пробивающимися усиками, шагающего по слабо освещенным, заснеженным улицам Москвы в тишине, изредка прорезываемой скрипом полозьев и бодрым покрикиваньем извозчиков.
Он повторяет слова монолога Отелло, но с досадой останавливается, заметив, что непроизвольно начал декламировать: тайна искусства улетела…
Где-то здесь, в эти дни, принимается окончательное, давно зревшее решение: он будет осенью пытаться поступить в филармоническое училище.
И, выяснив это для себя, он уже больше не ходит на лекции, делая исключение только для курса