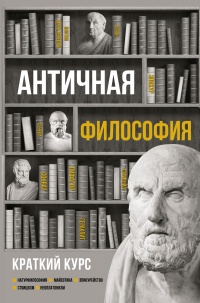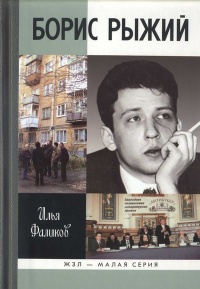Книга Философия - Илья Михайлович Зданевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Это тоже русское учреждение?
– Чудак, что вы глухи, слепы что ли, ну, разумеется, все актёры тут (якобы любители, сказать по правде) русские, да и разве кто-нибудь в этом паршивом городе додумается до этого?[99] Нет, русские принесли настоящую культуру, показали себя варварам. Ах, Ильязд, неужели вы не понимаете, что русские – это золотое дно, и вот почему я, несмотря на все трудности, на то, что я еврей, проник в эту среду. Я богатею по часам, и я здесь в год составлю себе чудовищное состояние, и потом, о потом я вам как-нибудь расскажу о невероятных моих проектах…
– А Синейшина, вы не можете ли узнать, здесь ли он?
– Опять Синейшина, возьмите лучше какую-нибудь девочку.
– К чёрту вас с вашими девочками и вот вам обратно ваши пятьдесят лир, с такой сволочью, как вы, не желаю иметь никакого дела! Прочь! – и Ильязд бросился вон из залы и вниз по лестнице. Левин преследовал его, не отставая:
– Стойте, стойте, какой отвратительный характер, ну, чего вы разругались, возьмите эти деньги, они же вам нужны, останьтесь, успокойтесь.
Но Ильязд, сорвав маску и отбросив домино, выбежал на подъезд. Левин устремился вслед за ним. Внизу посередине пустынной улицы возвышалась какая-то личность, сложив руки на груди, и рассматривала театр.
– Вот он, – шепнул, оборачиваясь, Ильязд, – Синейшина? Ну да, Синейшина[100].
Суваров[101] вперился в Ильязда, глаза, полные беспокойства, впал в раздумье, поколебался с минуту, повернулся и, отстранив спокойно Ильязда, вошёл в театр, с яростью хлопнув дверью.
6[102]
Сумасшедший занимал всегда одну и ту же скамейку на Конской площади[103]77. (Какая бы ни была погода), он появлялся откуда-то из глубин Стамбула всегда на исходе дня, усаживался лицом к морю и, откинувшись и бормоча что-то, просиживал до первых лучей дня. Приносил он с собой несколько краюх хлеба, которых не трогал сам, а всё раздавал голубям, слетавшимся за полчаса до его прихода в ожидании благодетеля. Сумасшедший приходил на площадь далеко не ежедневно, иногда пропадал неделями, и, странное дело, голуби никогда не собирались напрасно, их появление предвещало, что Сумасшедший будет непременно.
Когда появился он впервые, сказать было трудно, но обратил впервые внимание на себя в памятный день переворота в апреле[104] 1909 года[105], когда Конская площадь была переполнена офицерством и после убийств младотурецких министров и офицеров, на исходе дня, вдруг появились летящие от мечети Баязида стаи голубей, а вслед за ними явился Сумасшедший и, вежливо попросив группу военных уступить ему его место, уселся, не обращая никакого внимания, и принялся раздавать хлеб птицам, покрывавшим его, усевшимся ему на плечи, на грудь, на руки и на голову.
Внешность Сумасшедшего была достаточно примечательна. С длинным иконописным лицом, кожей жёлтого воска и совершенно прозрачной, без единого намёка на кровь, с раздвоенной редкой бородой, с глазами спокойными до стеклянности, умный, не будь на нём страннейшего колпака и не обрамляй его лицо длинные пейсы, обнаруживал удивительное сходство с некоторыми изображениями в греческих церквях, почему и турчанки, и гречанки, и других исповеданий женщины, спускавшиеся в направлении источника Святого Серапиона искать исцеления от бесплодия или застоя и тому подобных женских историй и неизменно останавливавшиеся около Сумасшедшего, чтобы, хотя он и был евреем, приложиться к его одежде, и называли поэтому Сумасшедшего Иссой, но вообще он был известен просто под кличкой Сумасшедшего, и только немногие обитатели околотка, вроде Хаджи-Бабы, которые вообще всё решительно знали, утверждали, что его зовут не Иссой вовсе, а Озилио[106]. Но никто не мог ответить любознательному Ильязду, который во время своих дозоров проходил всякий раз мимо Сумасшедшего, сидевшего камнем и закинув голову, где он проживал и сколько лет могло ему быть.
Но в эту ночь пристыжённый, угнетённый, досадующий на костюм, которым его наделил Суваров, когда Ильязд после нудного и бесконечного путешествия, пройдя всю улицу Пера, перейдя мост, где с него ничего не взяли за переход, нанеся ему последний удар, – «Пропусти его так, разве не видишь – русский», – сказал один сборщик другому, – и преодолев пустые кварталы Стамбула, добрался до Софийской площади – час, в который он уже обычно заканчивал свою прогулку вокруг Ахмета, когда ветер, проснувшись[107], первым покидает поверхность моря и звёзды становятся особенно выразительными – час прогулки, которая, быть может, никогда не повторится, нарушенная заставой засевших в отхожих ямах русских, Ильязд не свернул налево, к себе домой, а, перейдя площадь, подошёл к Сумасшедшему и уселся с ним рядом. «Хаджи-Баба спит, а я больше не могу остаться в одиночестве после гнуснейшего Суварова. Вот этот меня очистит», – подумал он.
Сумасшедший не двинулся, не нарушая своей позы, в которой он оставался, по-видимому, долгие часы. Заметил ли он Ильязда? Ильязд просидел с четверть часа, прислушиваясь к шагам шагавших вдоль Айя Софии турецких часовых, единственным звукам, и наконец произнёс по-французски (Сумасшедший должен был понять его, ибо в Константинополе все понимали по-французски):
– Знаете ли вы, что я несчастен?
Сумасшедший ничего не ответил, оставался в течение получаса в той же позе, вздохнул, словно просыпаясь, невероятно медленно опустил и повернул в сторону Ильязда голову и, как будто только теперь вопрос наконец достиг его, ответил:
– Да, я знаю, – и после молчания: – Я уже много раз видел, как вы по ночам совершаете круг, идя против звёзд и навстречу солнцу, вместо того чтобы идти посолонь[108], – молчание. – Вы сами делаете себя несчастным.
– Вы думаете, что если бы я всякий раз шёл в обратном направлении, никаких несчастий и не было бы?
– Я хочу сказать, что вы не умеете делать выводов. Это даётся немногим. Но с тех, кому ничего не дано, ничего и не требуется. Вам же дано многое, но вы расточаете дар, не научившись делать выводов. Я думаю, что вы могли бы выучиться, если и не блестяще, то во всяком случае скрасить тот пробел, ужасный пробел, который делает всё данное вам ни к чему, – он говорил очень хорошо, не на вульгарном французском языке Константинополя, а литературно, точно воспитанник духовной семинарии, округляя изречения. – Я вас знаю, вы можете ничего не говорить о себе, ваше прошлое, настоящее, будущее мне теперь ясно. Вы, горе от ума, одна из многих жертв той лихорадки, которую переживает человечество. Но вы не первый и не последний. Смотрите на неё, – и Сумасшедший простёр руку к небу. Ильязд поднял глаза, соображая:
– Полярная звезда?
– Да,