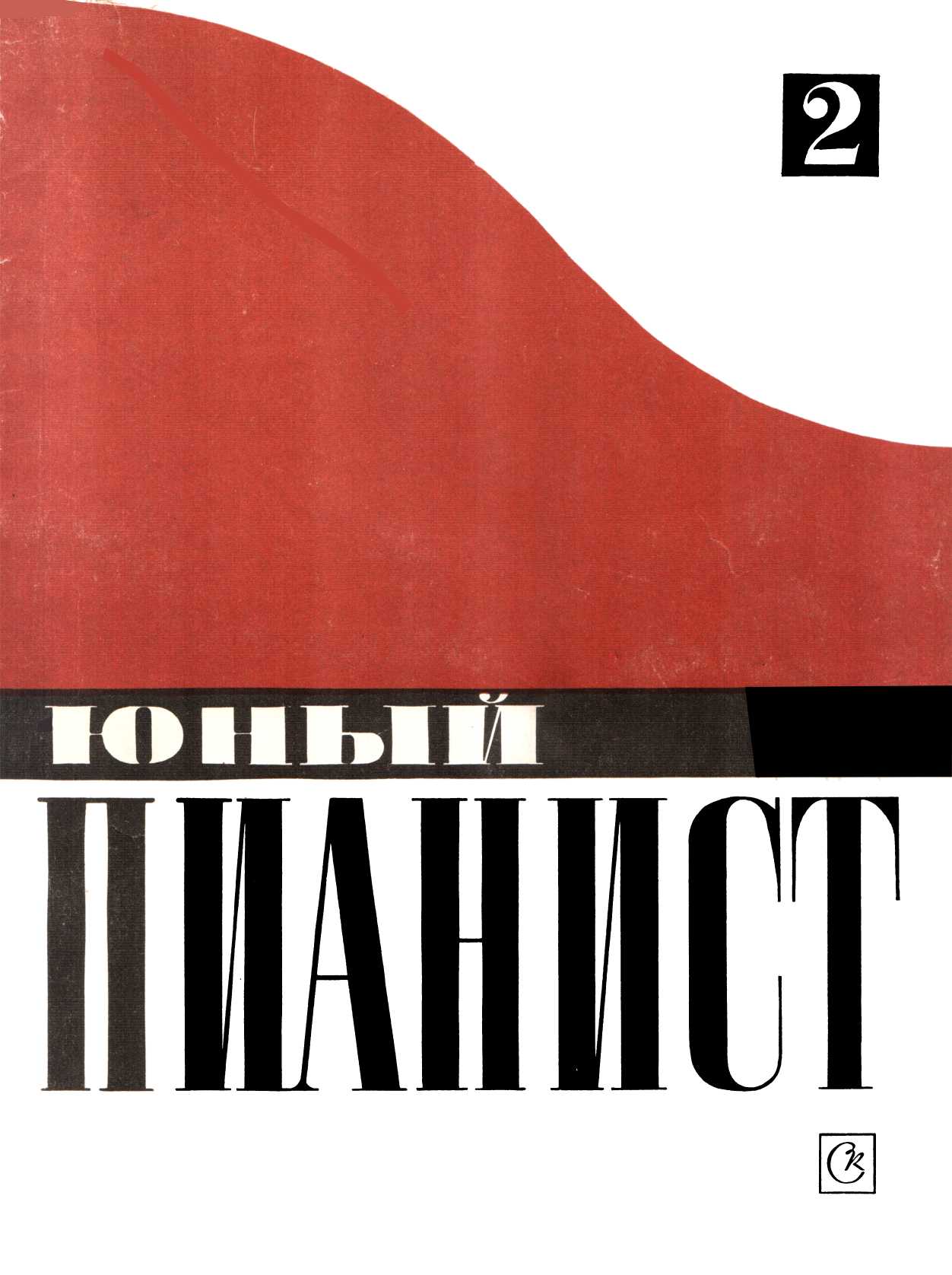Книга Записки еврея - Григорий Исаакович Богров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Эка важность, воскликнутъ они: — одного субъекта берутъ въ рекруты, и сколько шуму и воплей! У насъ сплошь да рядомъ рекрутируются десятки тысячъ людей, и дѣло обходится безъ всякихъ драмъ. Вольно же евреямъ уклоняться отъ государственной повинности!
Рекрутская повинность, во всякое время, создавала и создаетъ много семейныхъ дразгь: тамъ мать разстается съ своимъ любимымъ дѣтищемъ; тамъ женихъ оставляетъ невѣсту; тамъ молодой отецъ семейства надрывается отъ рыданій, оставляя семью на произволъ судьбы. Но многія изъ этихъ, и имъ подобныхъ драмъ, теряютъ свою поражающую силу отъ вмѣшательства здраваго разсудка и мерцающихъ въ перспективѣ возможныхъ надеждъ.
Но такихъ рекрутъ, какъ десятилѣтній Ерухимъ, нельзя ни урезонить, ни утѣшить. Онъ не понялъ и не повѣрилъ бы никакимъ утѣшеніямъ, никакимъ надеждамъ. Его похожденія, о которыхъ я разскажу въ продолженіи моихъ записокъ, наглядно докажутъ моимъ читателямъ, что еслибы Ерухимъ повѣрилъ какимъ-нибудь надеждамъ, то былъ бы совершенно неправъ. Евреи-солдаты, въ прежнія времена, не допускались къ фронтовой службѣ: они тянули лямку въ деньщикахъ, барабанщикахъ и музыкантахъ. Тутъ далеко не уйдешь, яснымъ соколомъ не взглянешь и генераломъ не возвеличишься. Мой Ерухимъ не двадцатипятилѣтній Иванушка, дышущій силой и здоровьемъ, привычный къ физическому труду, и даже къ кулачному бою и молодецкой выпивкѣ. Это — болѣзненный, хилый ребенокъ, забитый еврейскими учителями, запуганный съ дѣтства, съ зачатками пожизненнаго геморроя и золотухи. Для него русскій языкъ — китайская грамота; онъ дрожитъ предъ каждымъ уличнымъ мальчишкой, а солдата боится пуще его страшнаго ружья. Непосредственно изъ объятій чадолюбивой, еврейской матери, онъ переходитъ въ ежовыя лапы солдата-дядьки; отъ учительской скамьи, на которой онъ выросъ скорчившись въ три погибели, онъ переходитъ къ военной вытяжкѣ и выправкѣ прежнихъ временъ; послѣ дѣтской розги меламеда и пощочинъ чахоточной его руки, онъ, безъ всякихъ постепенныхъ переходовъ, подвергается сразу солдатскимъ фухтелямъ, палкамъ и кулачному мордобитію. Хороша перспектива! Что касается до того, чтобы чего-нибудь дослужиться, то объ этомъ еврей и помыслить не смѣлъ: онъ могъ служить и вѣрой, и правдой, могъ быть и трезвымъ, и способнымъ, и честнымъ, и расторопнымъ, и все-таки, въ деньщицкой сѣрой шинели, пробарабанить или протрубить свои двадцать-пять лѣтъ службы, съ прибавкой еще нѣсколькихъ лѣтъ не въ зачетъ, а затѣмъ возвратиться въ свое, или чужое еврейское общество, избитымъ, нищимъ, калѣкой, отупѣвшимъ, огрубѣвшимъ, безъ крова и пристанища, безъ дневнаго пропитанія. Хороша карьера!
Но почему евреи отдавали въ солдаты такихъ малолѣтокъ? На этотъ вопросъ я могу отвѣтить съ большимъ знаніемъ, чѣмъ на вопросъ: для чего такихъ дѣтей принимали?
Какъ камень, брошенный въ воду, вызываетъ не одно мѣстное волненіе поверхности воды, а безчисленное множество круговъ, на довольно дальнемъ разстояніи, такъ и всякое неразумное соціальное правило или привычка, вкравшаяся въ складъ какого-нибудь общества, отзываются непоправимымъ вредомъ тамъ, гдѣ его вовсе не ожидаютъ. Неразумное правило еврейскаго общества женить сыновей въ дѣтскомъ почти возрастѣ размножало нищихъ и паразитовъ, и ставило общество въ печальную необходимость отбывать рекрутскую повинность преимущественно малолѣтками. Только они одни не успѣли еще сдѣлаться отцами семействъ; всѣ прочіе, которыхъ можно назвать рабочей силой, были уже обременены женами и дѣтьми. Отдай подобнаго члена въ военную службу, и вся семья, скудно питавшаяся парою рукъ или мозговою работою одного человѣка, должна повиснуть на шеѣ сердобольнаго еврейскаго общества. Вотъ почему, большею частью, накоплялись цѣлыя роты еврейскихъ дѣтей-мальчиковъ, влачившихъ за собою свои непомѣрно-длинныя казенныя шинели, и утопавшихъ въ своихъ глубокихъ, солдатскихъ, сѣрыхъ фуражкахъ; вотъ почему, эти несчастныя дѣти приводились къ пріему, какъ очистительныя жертвы. Всякая мать отданнаго въ рекруты сына молила Бога послать ему скорую смерть, и избавить его отъ долгихъ страданій. Вотъ почему раби Исаакъ утѣшалъ свою несчастную Перлъ тѣмъ, что сынъ ихъ «умеръ для семьи, умеръ для своей націи и умеръ — для самаго себя». Это значило: нечего о немъ и думать, незачѣмъ и плакать.
Но для чего же принимались подобные рекруты? Вѣроятно, въ томъ мнѣніи, что ранняя солдатская школа жизни воспитаетъ изъ нихъ лучшихъ солдатъ. Но стоило ли трудиться изъ-за того, чтобы воспитать какого-нибудь деньщика или барабанщика? А саолько ихъ запруживало военные госпитали, сколько умирало!
Возвращаюсь къ своему разсказу.
Моя болѣзнь была чрезвычайно опасна и продолжительна; я стоялъ на краю могилы, но судьбѣ не угодно было покончить со мною разомъ: она оставила меня въ живыхъ для дальнѣйшихъ разсчетовъ. Протекли съ тѣхъ поръ десятки лѣтъ, но ощущенія, вынесенныя мною тогда, и до настоящей минуты не изгладились изъ моей памяти. Предо много носились какіе-то образы, то страшные, то ласкательно-пріятные, то безобразно-смѣшные. — Лица, игравшія какія-нибудь роли въ событіяхъ моего дѣтства, постоянно метаморфозировались и мѣнялись: Леа вдругъ преобразовалась въ полицейскаго чиновника, мой учитель — въ безжалостнаго ловца, безчеловѣчно душащаго бѣдную Олю, одѣтую въ кафтанъ Ерухима; мизерный еврей-доносчикъ наигрывалъ на скрипкѣ какіе-то дикіе мотивы, а Перлъ съ мужемъ кружились и прыгали не въ тактъ; Марья Антоновна дралась съ полицейскимъ чиновникомъ, а Ерухимъ, съ жемчужной повязкой матери на головѣ, чему-то хохоталъ. Потомъ, вдругъ, наступала какая-то черная, густая тьма; мой мозгъ работалъ и копошился какъ будто гдѣ-то въ подземельи, до тѣхъ поръ, пока что-то тяжелое не рухнуло и не прядушило меня. Я терялъ всякое сознаніе; мои чувства засыпали или замирали…
Однажды, я ощутилъ трепетную, прохладную руку на моемъ лбу. Я почувствовалъ какое-то крайнее утомленіе во всемъ моемъ существѣ. Тѣло мое покоилось въ чемъ-то мокро-тепловатомъ; вѣки отяжелѣли какъ свинецъ, такъ, что при всемъ моемъ усиліи, я ихъ приподнять не могъ.
— Жизнь моя, сердце мое, мой бѣдненькій Сруликъ! спишь ли ты? послышалось мнѣ.
«Кто это?» подумалъ я: «вѣроятно опять что-нибудь страшное, противное».
Вопросъ, сопровождаемый еще болѣе нѣжными эпитетами, повторился.
— Оставь, не безпокой его, пусть себѣ спитъ! послышался мнѣ суровый голосъ отца.
— Я хочу только убѣдиться, узнаетъ ли онъ меня. Докторъ увѣрялъ же, что опасность миновалась, и что кризисъ кончился благополучно.
Я ясно разслышалъ голосъ моей матери. Мнѣ хотѣлось заплакать отъ наплыва какого-то чувства, но нервная система, казалось, полѣнилась сдѣлать нужное для этого усиліе. Я собралъ всѣ свои силы, и полуоткрылъ глаза. Я ясно увидѣлъ лицо моей матери, орошенное слезами, и встрѣтилъ ея ласкающій взоръ. Я сдѣлалъ еще одно усиліе, и вяло улыбнулся. Мать прильнула къ моему лбу. Я, вѣроятно, опять погрузился въ сонъ.
Мое выздоровленіе шло чрезвычайно медленно. Оказалось впослѣдствіи, что во время моей болѣзни, Леа,