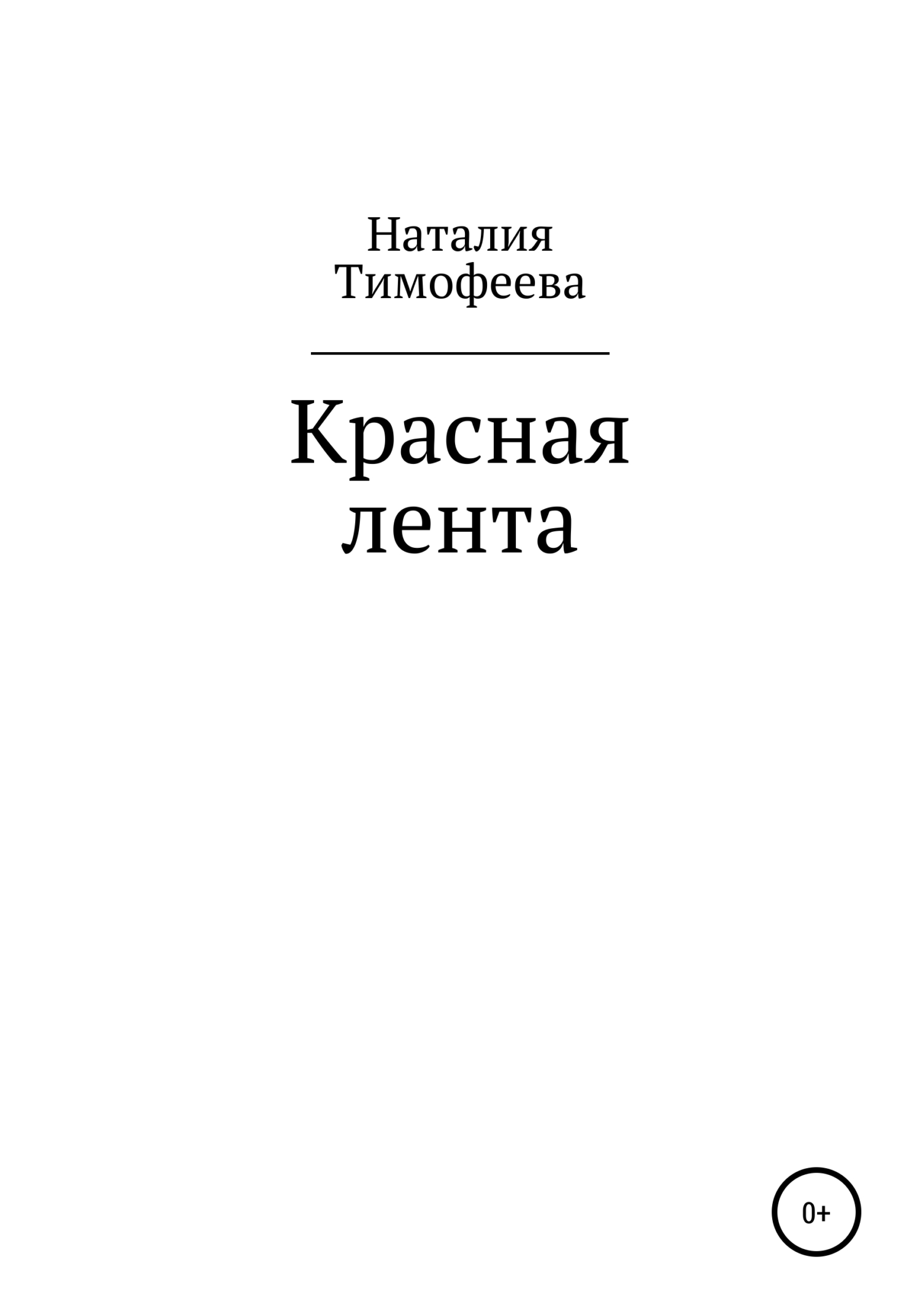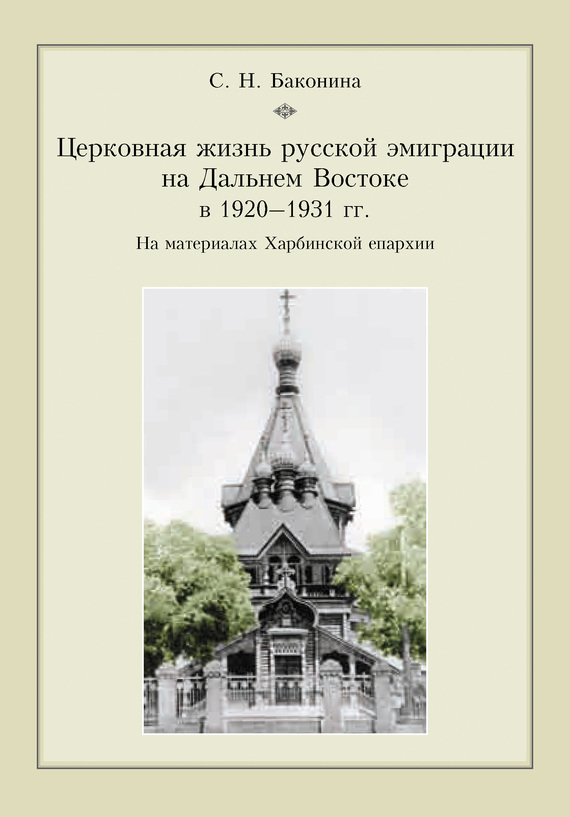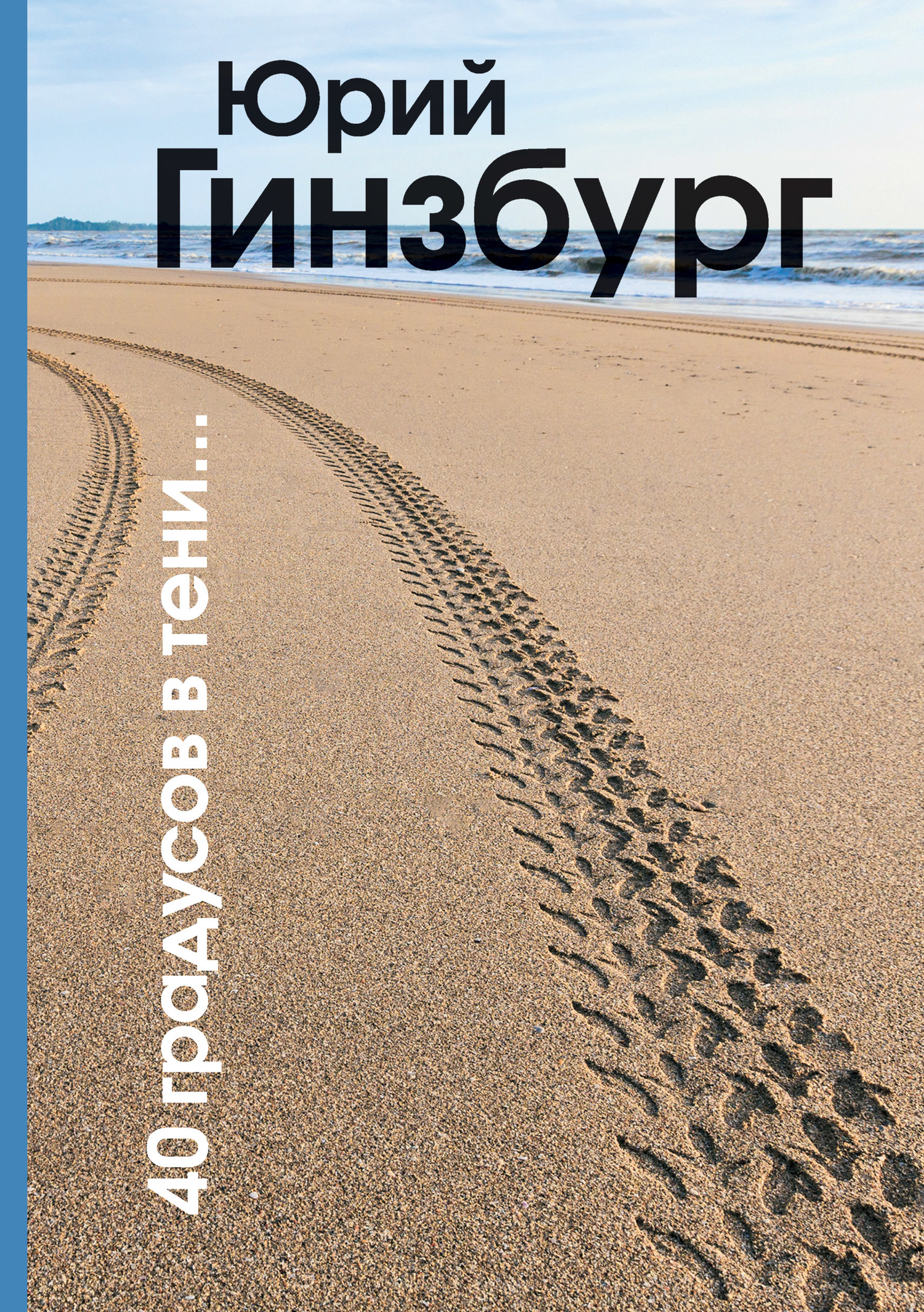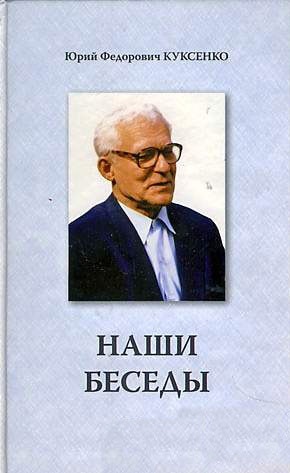Книга Дороги и судьбы - Наталия Иосифовна Ильина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Года за два до этой дневниковой записи мать рассталась с человеком, которого, быть может, любила. Я едва его знала. Мне было тринадцать лет, когда я увидела его впервые. Откуда-то вернувшись, застала у нас незнакомца, мать поила его чаем, отца дома не было, он служил тогда в Чаньчуне… Мне не понравилось, как мать смотрела на незнакомца, а он — на нее, и что-то было виновато-заискивающее в их обращении со мной. Я отказалась от чая, ушла к себе, стала читать, читать не могла, все прислушивалась, о чем они там говорят, и мне не нравились интонации. А потом была та вышеописанная сцена, когда отец разбудил меня ночью, сказав, что мама хочет от нас уйти, и я рыдала и догадалась, что всему виной тот человек, которого я уже ненавидела… Больше он к нам в дом не приходил. Но однажды я встретила мать на улице с ним под руку, бросилась от них бежать, мать кинулась за мной, поймала, обняла, я вырывалась, отворачивалась, плакала… Происходило это где-то недалеко от нашего дома, были сумерки, шел снег. Мать повела меня домой, я не очень сопротивлялась, хотя твердила, что убегу, убегу, убегу, — интересно, куда я собиралась бежать? Очень жалела себя. Мать не жалела нисколько, пожалела ее лишь спустя много лет. В тот вечер я торжествовала, что ненавистный этот человек остался там один на улице, мама его бросила, ушла со мной, обеспокоена, уговаривает меня, утешает.
С той поры я этого человека больше не видела, но почему-то знала, что мать продолжает с ним встречаться, а позже почему-то знала, что между ними все кончено. Как протекал их роман, что собою представлял этот человек, почему они расстались — все это я узнала лишь после смерти матери из ее дневников. А при ее жизни разговоров о нем у нас не было, даже на улице, когда я собиралась убегать, не было. Своих чувств я больше не показывала, делала вид, что ничего не знаю о личной жизни матери, а она делала вид, что этому верит. Позже я старалась скрыть от матери свои увлечения, свои романы. Так сложились наши отношения — никогда никаких откровенных разговоров.
Своими мыслями, чувствами, впечатлениями от прочитанных книг я делилась с кем угодно, только не с матерью. Я пыталась иногда начинать беседы на отвлеченные темы, но быстро замолкала — в глазах матери мне чудились ирония, снисходительность, меня не принимали всерьез! Она тщеславилась тем, что мне легко дается учение, даже хвасталась друзьям моими способностями и памятью, но эмоциональность моего нрава, экспансивность, несдержанность шокировали ее и раздражали. Никогда не было между нами намека на душевную близость.
Мать иронизировала над окружающими, считала себя выше их, но их мнение было для нее важно чрезвычайно. Забота о декоруме, о стороне внешней не покидала ее всю жизнь. Восхищение окружавших было для нее важнее хлеба, она придумала себе роль мужественной женщины, не склоняющей головы под ударами судьбы, никогда не жалующейся, всегда немного насмешливой. При посторонних она иначе разговаривала со мной, чем наедине, называла меня «Натали» и «моя непочтительная дочь». Это сердило меня, я отказывалась участвовать в игре… Неумелая, непрактичная, она стремилась, однако, к влиятельным знакомствам, в наших жалких комнатах устраивались жалкие чаи для какого-нибудь англичанина с женой, или француза, или итальянца… Жалкость обстановки мать не смущала, напротив: «А la guerre comme a la guerre»[10] и «Полюбуйтесь, до чего доведены люди моего круга!» Именно благодаря какому-то доброму англичанину, пившему у нас чай, я получила работу в журнале — об этом расскажу позже. Знакомство же, которое мать завела с находившимся в Харбине проездом милейшим старым французом мсье Массне, изменило впоследствии всю жизнь моей сестры.
Я дважды разлучалась с матерью: два года жила без нее в Шанхае, семь лет в СССР. Находясь от нее вдалеке, я немедленно забывала все то, что осуждала в ней, мне помнились лишь ее закрывающиеся от усталости глаза и как скрипело по ночам ее перо. На расстоянии я ощущала ее любовь, беспокойство, тревогу, во мне постоянно жило желание утешить ее и поддержать, и письма мои бывали длинными и нежными. Я не грешна перед ней, пожалуй, только тем, что никогда не оставляла ее без вестей о себе. Ее письма тоже были нежнее и раскованнее, чем наши с ней беседы, хотя гораздо сдержаннее моих, и подписывалась она неизменно так: «Мать». Однако стоило нам встретиться, как отношения тут же попадали в прежнюю колею, и опять я чувствовала, что меня не принимают всерьез, и не хотела делиться с ней тем, чем в данный момент жила.
Я знаю, что в последний московский период жизни матери ее, уже старую женщину, мучила моя с ней неоткровенность, моя от нее отдаленность. Присущий ей гонор никогда не позволял ей высказать это прямо. Она задавала мне вопросы, а в глазах настороженность, даже испуг: она предвидела, что отвечать ей будут коротко, ничего не расскажут подробно, ничем не поделятся. В глазах испуганная мольба, а тон легкий, светский, этим тоном спрашивают: «Как живете?» — не интересуясь ответом. Я знала, что тон — маскировка, душа моя плакала от жалости, но все равно тон меня раздражал, я ничего не могла с собой поделать, отвечала коротко, даже как-то вызывающе коротко…
Итак, из того домика на окраине мы поздней осенью 1932 года переехали в дом Ягунова. В то время мать имела работу, которая хоть и оплачивалась плохо, но зато отнимала мало времени. Мать числилась ревизором всех библиотек на иностранных языках (имелись, конечно, в виду русские библиотеки) в Департаменте народного просвещения. Кажется, она получила эту работу благодаря влиятельному китайцу, члену правления КВЖД, детей которого учила английскому (или французскому?) языку. Мать была счастлива, когда назначение было подписано, она на государственной