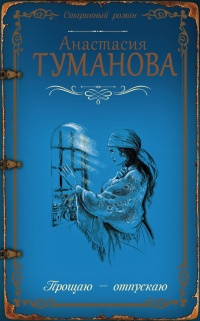Книга Отворите мне темницу - Анастасия Туманова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В комнату вбежала Дунька.
– Господь с вами, барин! Что это у вас так бухнуло?! Никак, шифанер с книжками завалился?
– Никак нет, Дунька, это я сам… так поднялся неудачно. Что там с Машей?
– Спит! – с широченной улыбкой отрапортовала нянька. – Спит, ангелица наша, и губочками чмокает! С утра изволили молочка пососать и опять уснули!
– А жар? А кашель? А…
– Как рукой всё сняло! Истинное чудо Господь явил! – на лице Дуньки сияли все веснушки. – Не иначе, Настасья Дмитревна наша на небеси Господа за своего младенца умолила! А может, мою грешную молитву Бог услышал… Может ещё статься, что…
Но Никита, уже не слушая больше, сгорбился на кровати и, не стыдясь няньки, закрыл лицо руками. Дунька умолкла на полуслове, подошла, молча обняла его за плечи. Молчал и Закатов. В голове было холодно и пусто. И он точно знал, что теперь его в этой жизни не напугать больше ничем.
Той же ночью Закатов написал письмо Мишке. Сидя за столом перед моргающей свечой, он торопливо гнал по бумаге строку за строкой, рассказывая о том, как жил эти три года. О женитьбе без любви. О времени, прожитом с Настей. О нелепой и страшной её гибели, о маленькой дочке, оставшейся у него на руках, о том, что он знать не знает, как растить детей. О собственных детских годах, мучительных и тяжких, про которые не рассказывал прежде никому на свете – даже Мишке… За окном уже светало и огарок в позеленевшем подсвечнике превратился в оплывшую лужицу, когда Закатов бросил перо, присвистнул, увидев стопку исписанных листов (никогда в жизни столько не писал!) и, подумав, добавил ещё несколько строк:
«И прости, что не писал до сих пор. Поверь, дня не было, чтобы я о тебе не вспомнил. Просто я тебя, брат Мишка, всю жизнь знаю и могу вообразить, что ты обо мне думаешь теперь. И ведь, что самое обидное, ты прав… и всегда был прав. А изменить уж ничего нельзя, и быть мне во веки веков безнадёжной скотиной, аминь. Остаюсь по-прежнему твой друг Никита Закатов.»
Письмо в Иркутск было отправлено. Никита не ждал ответа раньше весны и был очень удивлён, когда в середине февраля ему привезли из уезда пакет с московским адресом Иверзневых. Из пакета выпала короткая записка Веры и угрожающей толщины Мишкино письмо. Как оказалось, другу подвернулась оказия и удалось отправить письма родным, минуя непременную полицейскую цензуру, напрямую в Москву. Неловкими от волнения пальцами Никита разорвал конверт.
На приветствия и пожелания здоровья Мишка не стал тратить времени, и письмо начиналось весьма решительно:
«Закатов, ты не скотина, а просто болван, и нет тебе моего помилования! Только такой непробудный осёл, как ты, и мог подумать, что я буду за что-то тебя судить! Как будто бы не знаю я тебя вот уж почти двадцать лет! Ты, сукин сын, мне писать не хотел – и на что рассчитывал, право, не знаю! Ведь и Верка, и Саша, и Петька мне сообщали о житии твоём во всех подробностях! И безо всяческих проверок: у Сашки сам знаешь какие возможности есть по службе. Мне пришлось прочесть целых три версии, касающиеся причин твоей женитьбы, – и в цель попала одна только Верка! Впрочем, чему ж удивляться: она тебя сердцем чувствует… и только посмей сказать, что это не так! Так что знаю я о твоих семейных делах давным-давно и, признаться, даже рад был, что кто-то за тобой там приглядывал. Нельзя тебя, Закатов, одного оставлять надолго: серьёзных глупостей наделать можешь. Я, грешным делом, считал, что ты Бог весть что натворил в своём Болотееве, коли стыдишься мне писать… Жаль, что с женою твоею я не успел познакомиться. А теперь уж и не придётся. Прими, брат Никита, мои соболезнования, искренне обнимаю тебя и прижимаю к сердцу… ты снова один, душа моя. Кабы веровал я в Бога – написал бы тебе, что пути Его неисповедимы и что Он сам терпел и нам велел, и прочее в том же поповском духе. Но мы с тобой попам давно не верим. Скажу только, что, к счастию, не может человек ничего знать о своей судьбе наперёд. А посему не вздумай там, в своём медвежьем углу, опять запить и образ человечий утратить! Меня рядом нет, отнимать бутылку и в совесть тебя вгонять некому. Знаю, что имеешь право, и повод уважительный налицо, – и всё же думать забудь. Ты мужчина и человек, раскисать нам нельзя, а надобно делать, что должно – а там уж как кривая вывезет. Слишком много народу от тебя зависит: и мужики твои, и дочка – которой не пошли Бог такие же детские годы, каковыми твои собственные были. Помни это, брат Никита… а более ничего советовать не стану, ибо бесполезно. Кабы я ещё на что-то надеялся – велел бы тебе кинуться Верке в ноги и тащить её под венец, а то сколько уж можно, право… Жаль и тебя, и сестру. Не знаю даже, кого более. Но я знаю, что ты с места не двинешься ради собственного счастья, так что и слов напрасно тратить не стану. Бисер метать перед таким созданием, как ты, бессмысленно. А потому больше ни слова о твоей горькой судьбине ты от меня не услышишь.»
В этом месте Закатов невесело усмехнулся. Подумал о том, что Мишка сильно изменился и, кажется, повзрослел, – а ведь всего три года не виделись… То ли жизнь ссыльная обломала, то ли просто время наступило, и оба они стареют, куда деваться… Выбранив себя мысленно за ненужную чувствительность, Никита продолжил чтение.
Из прошлых писем он знал, что в Иркутске друг оказался под надзором полиции, но сидеть без дела не пожелал (кто бы в этом усомнился!) и выпросил себе под начало больницу винного завода. Поскольку Иверзнев был студентом-медиком, запущенный лазарет ему отдали охотно. Никита с увлечением читал бурные излияния друга по поводу каторжных порядков:
«Это же чёрт знает что такое, как начнёшь всерьёз разбираться! Вот ты со мной спорил вечно, а я и прежде знал, и сейчас повторю: то, что народ в России терпит, никакая Европа не выдержит! Здесь половина женщин прибыла за своими благоверными, а вторая половина – или порешили своих господ-извергов, или мужей-мучителей. Мужики разные попадаются: кто и впрямь за дело сидит, кто – по недоразумению, кто вовсе потому, что мир так порешил… И ты мне ещё говорил, что должно всё оставить как есть и ждать, покуда само собой наладится! Нет, брат Никита, ничего само собой не устраивается! И колесо само из колеи не выйдет, а надобно брать, подымать и тащить, на твёрдую землю ставить… тогда, может, и прок будет. Не поверишь, но я в самом деле рад, что здесь оказался. Упаси тебя Бог передать это братьям или Верке, они и так из-за меня намучились. Но ты сам знаешь – по-другому я тогда никак не мог.»
«И ведь вправду не мог, якобинец чёртов!» – сердито думал Никита, пробегая глазами чёткие, косые строчки. – «Хлебом не корми – дай бежать сломя голову под каким-то знаменем и кого-то избавлять да освобождать… И всю жизнь таков был! С Российской империей не повезло: под суд попал, – так теперь и на сибирской каторге вознамерился справедливость устанавливать! Как Бог свят, доиграется снова… а ему ведь всего два года осталось!»
Но, думая так, он не мог не восхищаться другом.
«В одном ты, Закатов, был тогда прав: мы все старались делать дело, совершенно его не зная. Думали о народе российском, судя о нём по собственным кучерам да кухаркам, не зная ни подлинных нужд его, ни чаяний, ни мыслей. Я только сейчас более-менее разбираться стал, когда на каторге оказался, бок о бок с этими людьми! И вижу, что не с того, совершенно не с того мы начали! Вот сейчас, слава богу, волю дали, и надо бы нам всем вместе…»