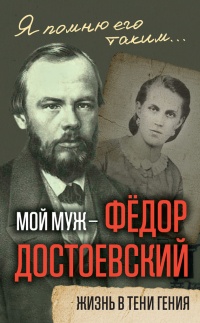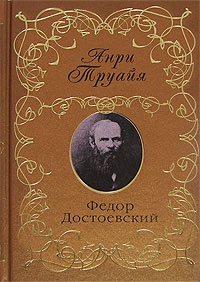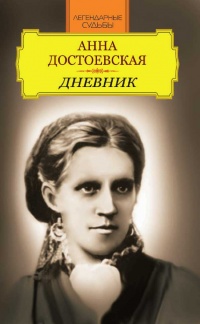Книга Достоевский - Людмила Сараскина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще при первом известии о «сгоревшей вотчине» М. А. велел передать крестьянам-погорельцам: «Последнюю рубашку поделю с ними». Мария Федоровна выдала по 50 рублей каждому двору взаймы, с надеждой на уплату, которой так никогда и не случилось; но стройка закипела, и к концу лета деревня была как новая, рядом с мазанкой поставили деревянный господский флигель, крытый соломой, избу для дворовых людей и скотный двор.
Дети, старшему из которых в первый деревенский год было 12, почти не замечали трудностей и неурядиц. Они обожали тенистую липовую рощу, которая через поле примыкала к густому березняку (он назывался Брыково), мрачноватому, диковатому, изрытому оврагами; фруктовый сад, окруженный глубоким рвом, и кусты крыжовника по насыпям; липы у дома, которые лучше всяких беседок служили столовой, — семья здесь обедала и чаевничала; пруд, который велела вырыть маменька, глубокий, с хорошей водой, там разводили карасей, ловили их на удочку; отличную купальню.
«Лесок Брыково с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семействе нашем он назывался Фединой рощею» (в «своей» рощице, поместив ее под Тверью, между усадьбой Скворешники и фабрикой Шпигулиных, автор «Бесов» устроит дуэль Ставрогина и Гаганова). Детские игры в дикие племена, в Робинзона, в лошадки, которые выдумывал фантазер Федя и красочно описал брат Андрей, происходили в тех же местах — в липовой роще, в поле и в Брыкове. Под липами мальчики строили шалаш, расписывали себя красками, надевали шапки и пояса из листьев и крашеных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, совершали набеги в березняк, где заранее прятались деревенские дети, которых брали в плен и держали в шалаше до выкупа. А то воображали себя потерпевшими кораблекрушение и «тонули» в пруду.
Постепенно семья знакомилась с соседями. Мария Федоровна, толково и с удовольствием управлявшая птичьим двором, огородом, посевами пшеницы, гречихи, овса, льна, картофеля, была непритязательна, общительна, с ней охотно встречались окрестные помещицы, наперебой зазывая в гости с детьми. По воскресеньям, на пути из большой каменной церкви в Моногарово, в двух верстах от Дарового, они заходили то к Хотяинцевым на кофе с пирогами, то к старушке Небольсиной передохнуть с дороги, то к помещикам Еропкиным посмотреть оранжереи и парники. Дети были счастливо уверены, что и соседи, и крестьяне Дарового их непритворно любят и желают добра.
В самом скором времени они знали уже всех обитателей округи, даже самых диковинных. «В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни какой семье; она все время проводила, шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда лет 20— 25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище (Можно, видимо, вспомнить фантазию Марьи Лебядкиной, которой чудится, что своего новорожденного ребенка она бросила в пруд: «Вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю»). Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое таковое состояние, претерпела над собой насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер». Андрей Михайлович, описав деревенскую дурочку Аграфену, впоследствии, читая роман брата, опознал ее в юродивой Лизавете — только сочинитель распорядился детским впечатлением по-своему: Лизавета умирает в родах, а сын ее, Павел Смердяков, становится слугой барина Карамазова, своего природного отца...
И случилось чудо, сотканное из мгновений первого Фединого лета в Даровом, на исходе августа, в местах детских игр, за оврагом, в густом кустарнике. Выламывая ореховый хлыст попрочнее, чтобы стегать им лягушек, вглядываясь в нарядных проворных ящериц, вдыхая запах прелых листьев и предвкушая грибную охоту в березняке, мальчик среди глубокой тишины вдруг услышал ясный и отчетливый крик: «Волк бежит!» Вне себя от испуга, крича в голос, он бросился бежать и добежал до пахаря, работавшего в поле невдалеке, схватил его за руку, весь трясясь и дрожа. «Это был наш мужик Марей...» Пахарь успокоил, ободрил и приласкал барчонка, и тот поверил наконец, что волка никакого нет и что крик померещился, как уже не раз мерещились ему бог весть какие звуки. «Это был красивый мужик, выше средних лет, брюнет с солидною черною бородою, в которую пробивалась уже седина», — подтвердит брат Андрей подлинное существование крепостного Марея (Марка Ефремова), знатока рогатого скота, советчика при покупке коров на ярмарке в Зарайске.
Быть бы забытым милому детскому приключению, как забывается в эти лета почти всё. Однако мимолетный эпизод детства поможет каторжнику Достоевскому выжить, когда острог явит ему других мужиков. Через 20 лет писатель вспомнит встречу в Даровом, а через 45 о ней напишет: «Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: “Ишь ведь, испужался, малец!” И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим... Если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял?.. Никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то... Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе». Оказывается, можно было видеть в хмельных, обритых мужиках, с клеймами на лицах, орущих пьяные песни, своих товарищей по несчастью, таких же самых Мареев...
Сельская идиллия длилась недолго. Старшие мальчики вместе с маменькой бывали в имении с весны до осени, но, став пансионерами, могли приезжать всего месяца на полторадва, а папенька — лишь дней на десять-двенадцать за лето: в Москве его ждали служба, хлопоты, огорчения, о которых он писал жене уныло и подавленно: «Сижу подгорюнившись да тоскую, и головы негде приклонить, не говорю уже горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня...»
Беспокойство росло вместе с долгами по имению, а доходы падали, хозяйство нищало; к Куманиным, которые обычно выручали, мнительный Михаил Андреевич избегал обращаться слишком часто («я заметил, что они скучают моими посещениями» и «дуются»); в ненастную погоду его мучили приступы головной боли и — увы — приступы жестокой ревности: ему чудилось, будто его беременная на восьмом месяце жена неверна ему. Он писал ей глухо и отрывисто, что расстроен, истерзан душой, как еще никогда в жизни, но Мария Федоровна догадывалась, в чем суть страданий мужа. «Не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим щастием и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей... Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего...»