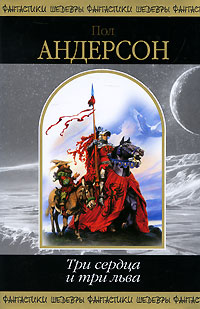Книга Абсолютная реальность - Алла Дымовская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обмыть – не обмыть, однако подобно розочками украшенному куску праздничного торта был подан ему Костя Собакин, нейрофизиологический кандидат разрешил, Петька пропустил, как приказано. Не то, чтобы Костя все это время был далеко, его присутствие ощущалось незримо, он был как истина – где-то рядом, и проявлялся в виде продуктовых посылочек: жена его, Надя, пекла на долю Леонтия посыпанный сахарной пудрой «хворост», бисквитные пирожные с вишневым джемом – сладкое в основном, Костя разумно полагал, что друг его не голодает. Это были осязаемые знаки внимания: ниточки от души одного к сердцу другого, хотя преувеличением вышло бы объявить Костю Собакина таким уж закадычным другом Леонтию. В том смысле, что он не был его забубенным другом. То есть, не участвовал в холостяцких эскападах, в ночных посиделках, в разговорах на «ты» – Костя оставался человеком по преимуществу семейным и домашним положением своим дорожившим. Ему далеко не все осмеливался в откровениях рассказать Леонтий, словно бы Костя олицетворял стоявшего на страже неусыпного цензора, который зрит в корень – подобающе или не подобающе деяние? Будто бы и стеснялся своего друга – вы спросите, какой же тогда это друг? Может, наилучший, кто знает? Потому как, слишком много вокруг нас доброжелателей, хоть и неумышленно, но все же, нет-нет, да и подтолкнут нас к пропасти, именно откровенностью своего притворного одобрения, тогда должен быть и кто-то, удерживающий нас от ненамеренного падения возможностью искреннего порицания. При всей своей пограничной совестливости, между тем, Костя Собакин отнюдь не слыл занудой, напротив, некоторые выражения его и меткие подколочки надолго входили в совместный обиход близких к нему людей, и расходились потом далее, захватывая форпосты популярности даже в интернете. Пусть Собакин не относился прямо к журналистской шатии – он служил в некоем непроизносимом ведомстве военным переводчиком, и не только с английского, но с довольно экзотических языков, с исландского, например, – но сама шатия почитала Костю за своего. Не единственно шуточек ради, однако, и с выгодой для себя. Сколько наспех писанных «на коленке» статей было выправлено и выверено им, совершенно задаром, сколько консультаций «богом прошу и умоляю!» по вопросам – а каким угодно! – того и не счесть. Костю Собакина любили. Корыстно – не корыстно, любовь есть любовь, заслужена она или дана просто так. Да и как было его не любить, это же лингвистический кладезь мудрости! – обозвал Костю один сильно докучливый сатирический поэт: тому помогал и с рифмой, словарный запас-то на семи языках! Чтобы не голословно утверждать о его талантах, вот вам пример. На вопрос докучливой репортерши-сумочницы – есть такие, обвешанные с ног до головы рюкзачками, ранцами, планшетами, цифровыми фотоаппаратами, с тучей перепутанных блокнотов и блокнотиков, все без толку и без пользы, – так вот, на кокетливый вопрос этой сумочницы – Ах, Костя! Вы, наверное, в таких (почему не в этаких?) разных странах работали, а в каком самом необычном месте вы побывали? … В КОМЕ! – ответствовал без раздумий Костя, и как ни в чем не бывало, прошествовал себе мимо. Бедная сумочница аж розовый смартфончик свой выронила, пуговичными глазенками хлоп-хлоп, мужичье кругом ржет. Зато фразочка разошлась, еще как.
В общем, Костя Собакин был допущен и пришел. Для приличия потрепался на кухне с Мучеником, по обрывкам доносившихся восклицаний: о непроизносимом значке «алеф» на конце древнееврейских письменных слов, по правилу тивериадских масоретов, как же – для Петьки подарок, надо ли говорить, что он тоже любил, если не боготворил Собакина, потом Петька тактично удалился: по его уверению, делать «оцифровку», работа срочная. И Костя остался с другом своим Леонтием наедине. Почему это было важно? Для Леонтия даже очень. Он не мог больше молчать. И бездействовать тоже. Вероятно, думал он, оттого и расхворался, в реальности, от нервов. Ратуйте, православные, что же это такое!? Что же это такое с ним произошло? Размышлял он всё о неведомой руке с трезубцем Нептуна и о заманчивой русалке из квартиры Тер-Геворкянов.
Почему не о Сцилле? Разве не о ней и не о письме были все его мысли? А вот и нет. Личное оно и есть личное, переживалось под спудом, не вынес еще Леонтий окончательного суждения, стало быть, и говорить не о чем. Письмо – оно тайна душевная, вот произошедший казус на лестничной клетке, если так можно назвать едва не случившееся смертоубийство, это дело другое. Совет бы Леонтию не помешал. Хотя не зря ли он выбрал именно Костю? На миг малый ощутил себя даже подлецом. Отчего? Да оттого. Назначил Леонтий себе в исповедники, а может, что и в соучастники, человека несвободного, пусть имеющего отношение к военному ведомству и сильно преданного друзьям. Двое детей, девочек, семи и трех лет, вот так, с бухты-барахты, впутывать их отца не пойми во что. Русалки какие-то и звездные пришельцы, что если вообще американские шпионы? Хуже ничего иного на ум не пришло сей час Леонтию. Разве что арабские террористы. Но на них было не похоже. Будто бы Леонтий видал их пачками! Шпионов, впрочем, тоже. Вообще Леонтий не слишком отличался наблюдательностью, даром, что полагал себя хватким журналистом, изобличитель заокеанских козней из него вышел бы такой же, как из многомудрого Петьки-Мученика разухабистый жиголо, а из Ваньки Коземаслова, к примеру, концертирующий солист-балалаечник. Тем более, надо было рассказать, кому-нибудь, и срочно. Зачем надо? Леонтия жгло. Может, он и поправлялся с трудом, от гнетущих мыслей, даже письмо от Сциллы, и то не помогло. Хотя, чему там было помогать? Только разбередило его еще больше. А с Костей он стал бы спокоен. Если бы отважился на откровенность. Будто бы в скромном переводчике Собакине для него отныне воплотилось само вселенское равновесие. Наверное, тут все дело в Костиной семье, – разрешил задачку Леонтий. У него самого такой не сложилось, возможно, он и складывать не умел. А вот Костя Собакин сумел и сложил. И как! Парадокс, одним словом.
Костя Собакин не только на язык был остер, не единственно образован, но еще весьма и весьма хорош собой. Леонтий бы позавидовал ему, если бы… Если бы на его памяти Костя какой вшивый разочек красотой своей щегольнул или прихвастнул, или на капельку воспользовался. Чистое, светлое лицо его вызывало в памяти полузабытое понятие «отрок», хотя Костя был уже не первой молодости. Такие правильные, тонкие черты пошли бы разве юной девице, призванной в кинематографе играть исключительно Аленушек и царевен-несмеян, «нежгучий» брюнет, скорее чуть рыжеватый, на фоне ослепительной белокожести, Костя запоминался, особенно оттого, что был глазаст: серо-стальные, с пышными ресницами, пристально глядящие, не сурово, однако вопрошающе, словно бы, без малого пафоса, душа его и в действительности взирала ликующе через оконца на мир божий изнутри. Вышел Костя и фигурой, не низок, не высок, в меру, строен и сухощав, бабья мечта, да и только. Потому, услышав о присутствии жены в Костиной жизни, да еще верной и любимой подруги, всякий человек подумал бы – не иначе, как она, первейшая на всю Москву, писаная раскрасавица. Такому, разве не любую? Саму королевну или миллионершу с «рублевки», стараниями хирургов превращенную из лягушки в Мэрилин Монро. И сильнее ошибиться бы не смог. Надя Собакина была вовсе не красавица. Очень круглолицая, курносая, расцветки, что называется мышиной, пепельно-серые волосы, закрученные в строгий жгут на затылке, прозрачные голубоватые глаза, телом – щедро полная сибирячка, совершенно антистоличный тип, вдобавок карманный размер – мужу своему едва ли по плечо. В простом обиходе близкие к дому Собакиных называли ее ласково и снисходительно Надюша-колобок, она не обижалась. Было бы на что. И профессия у нее была странная, для женщины, во всяком случае, не то, чтобы неподходящая, скорее редко встречающаяся. Надя Собакина служила модельным художником в одном довольно престижном ювелирном доме, назовем его, к примеру, «Маклаковский самодел» – тоже конечно в шутку, чтобы не ворчал никто на скрытую рекламу. Сначала рисунок, потом объемное воспроизведение в разноцветном акриле и дальше в руки золотых дел мастеров. Надины модели имели успех на выставках, брали и призы, работодатели ее ценили, платили отменно, особенно за эксклюзивные штучные работы. Но дело это было тонкое, кропотливое, а еще двое детей, муж, не блещущая здоровьем свекровь, Надюша-колобок радостно катилась от одного к другому, с людьми ей было хорошо, со всякими: тяжелыми и легкими, заковыристыми и простыми, заумными и с неба не хватающими даже тумана. И кулинарка знатная – Леонтий любил поесть при случае, порой нарочно набивался к Собакиным в гости, Надя готовила по Похлебкину, часто кашу из топора, не потому, что не хватало бюджетных средств, а выходило ей интересно, как из самых обыденных продуктов возникает неописуемая вкуснятина. Леонтий был уверен – Костя Собакин жену выбрал себе правильно. Ну, или она его. Потому что, оба они парой являли собой ту самую крепость, которую зазнавшийся англичанин хвалит как свой дом. На крепость, как раз, и можно было опереться, особенно если фундаментом ей служил некий высший рассудительный разум, куда прочней обыденного здравого смысла. Рассказать все Косте казалось естественным и само собой – к тому же, в отличие от Петьки-Мученика, военный переводчик Собакин не предавался безудержным и бестолковым фантазиям, а уж измышления Леонтия о террористах и шпионах, наверное, отверг бы в пять секунд. Даже если бы и не отверг – тогда уж Леонтий с незапятнанной совестью поспешил бы по известному адресу на Лубянской площади, сдаваться – не сдаваться, однако, поставить в известность, что в таком-то доме, в квартире за номером XXХ, завелась нечистая, в смысле намерений, пришлая сила. Завелась и строит нынче козни. В общем, все зависело от Костиного решения. Опять же, человек он был около-, или лучше сказать, полувоенный, что несомненно шло в зачет.