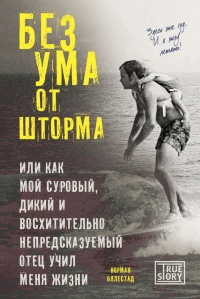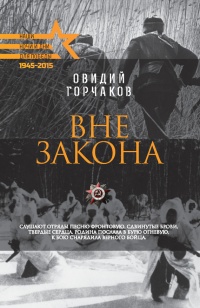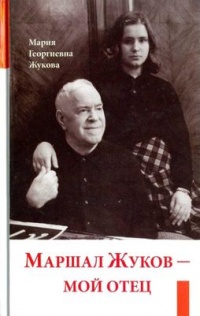Книга Предрассветная лихорадка - Петер Гардош
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К самому важному в своей жизни свиданию мой отец подготовился основательно. Он составил короткую – всего из трех фраз, – но эффектную речь, которая содержала слова, которым он придавал магическое значение. И в дороге, казавшейся нескончаемо долгой, в душных жарких купе без устали повторял ее про себя то скороговоркой, то медлительно и торжественно. Но теперь от захлестнувшего его счастья он потерял дар речи. Глядя со стороны, можно было подумать, что он забыл, как его зовут, но в действительности у него просто перехватило дыхание. И поэтому, не сказав ни слова, он просто протянул руку.
Шара бросила на нее взгляд. Ну, хоть руки у парня красивые. Длинные пальцы, изящная ладонь. И она решилась.
– Лили Райх, – подала она руку отцу.
Тот крепко пожал ее. И повернулся к Лили. Девушка быстро и энергично потрясла ему руку и звонко представилась:
– Шара Штерн, подруга Лили!
Мой отец все еще только ухмылялся полным металлической “виплы” ртом. Он был не в силах заговорить, обреченный на немоту.
Так они и стояли.
Наконец он протянул Лили перевязанную золотистой ленточкой коробку с бисквитами. Медсестра выпрыгнула вперед и выхватила у девушки пирожные. Она сама понесет! И, ласково глянув на моего отца, скомандовала:
– Идемте!
И они пошли. После некоторых колебаний Шара взяла моего отца под руку. Лили, потупив глаза, присоединилась к ним. На мгновение у нее появилась мысль подхватить отца под руку с другой стороны, но тут же ей показалось, что это будет уж слишком интимный жест. Медсестра, в своей чудной островерхой шляпе, с красивой картонкой в руке, шествовала позади.
Снег валил огромными хлопьями.
На пути к госпиталю им нужно было пересечь большой парк. Они пробивались по целине. Мой отец, продев одну руку под локоть Шары, в другой тащил перевязанный бечевкой чемодан. Лили с медсестрой шли, немного отстав от них.
И вот почти в самом геометрическом центре парка, спустя восемь жутких минут молчания, в какой-то счастливый миг, словно по воле свыше, мой отец вновь обрел дар речи. Он откашлялся и остановился. Опустил чемодан на снег и, вытащив руку из-под локтя Шары, повернулся к Лили.
Пока они шли, снегопад прекратился. И все четверо, застывшие будто хлебные крошки на белом овальном фарфоровом блюде, походили сейчас на героев какой-то сказки Андерсена. У моего отца был приятный мужской баритон.
– Именно такой я тебя представлял. Всегда. В своих снах. Здравствуй, Лили.
Лили оцепенела, потом кивнула. Словно камень свалился с ее души. Все казалось естественным. Они обнялись.
Шара и медсестра невольно отступили на шаг.
А спустя полчаса они уже сидели в закутке коридора за пальмой. Там стояли два кресла с потертой текстильной обивкой. Отец бросил пальто на спинку и поставил рядом с собой чемодан. Они просто сидели, изучая глазами друг друга, разговаривать им не хотелось. Иногда они улыбались. Ждали.
Наконец отец водрузил чемодан на колени и, распутав шпагат, открыл его. Отрез на пальто был аккуратно уложен сверху. Он достал его и, словно младенца, бережно протянул Лили:
– Тебе привез.
– Что это?
– На зимнее пальто. Осталось только сшить.
– На пальто?!
– Ну, ты же писала, что мерзнешь. Не выдали зимних пальто. Тебе нравится?
У Лили, помимо комплекта одежды, который она получила по прибытии в Швецию, была только юбка в национальном стиле, болотного цвета жилетик да ржаво-коричневый головной убор, смахивающий на тюрбан, – эти вещи ей подарили Бьёркманы.
Ворсистый плотный темно-коричневый материал, ласкающий ее руку, будил воспоминания о мирной жизни. Лили душили слезы.
А отец мой добавил:
– Битый час выбирал. Не разбираюсь я в зимних пальто. В летних – тоже.
Лили ощупывала материю, словно пытаясь расшифровать пальцами вотканные в нее потаенные коды. И даже понюхала ткань.
– Замечательно пахнет.
– Вот в этом дрянном чемодане вез. Боялся, по-мнется. Но ничего, слава богу. Представляешь, мне этот чемодан старшая медсестра дала. Одолжила.
Лили помнила все. Письма от моего отца она про-читывала не менее пяти раз. Сперва быстро, вза-хлеб, а потом, сбежав в ванную, перечитывала еще дважды, основательно, обдумывая каждый абзац. И позднее, через пару дней, прочитывала письмо еще дважды, подставляя на место написанных слов другие. О Марте она была наслышана.
– Микки Маус!
– Ну да!
Как же много всего хотел ей сказать отец! Фразы так и роились в его голове. С которой начать?
В кармане у отца оставалась еще одна сигарета, он вынул ее вместе со спичками.
– Не возражаешь?
– Я-то не возражаю! А твои легкие?
– С ними порядок. Они тут, на месте.
Мой отец показал на грудь.
– Зато сердце! Боюсь, сейчас выпрыгнет.
Лили гладила пальцем ткань, ощущая под ним дорогие ворсинки.
Мой отец закурил и выпустил изо рта сизую, в завитках, струйку дыма, собравшегося под потолком в облачко.
Наконец они заговорили, и фразы, бурные, незаконченные, хлынули, словно прорвало плотину. Они волновались, перебивали друг друга, спешили, стремясь наверстать упущенное.
Не говорили только о самом важном.
Ни тогда, ни позднее.
* * *
Мой отец не рассказывал ей о том, что в концлагере Берген-Бельзен он три месяца сжигал трупы.
Как он мог рассказать об источаемом горой трупов смраде, от которого слезились глаза и першило в горле? Можно ли было глаголами и эпитетами описать этот страшный труд? Описать, как из рук то и дело выскальзывали покрытые коростой конечности и с глухим стуком падали обратно на окоченевшие тела?
А Лили была не в состоянии рассказать ему о дне своего освобождения.
Почти полдня потребовалось ей, чтобы доползти от барака до каптерки – стометровое расстояние она одолела за девять часов. Солнце нещадно жгло ее обнаженное тело. Немцы уже разбежались. Лили запомнился только такой момент: под вечер она сидит, прислонившись спиной к стене, в немецком кителе и купает лицо в лучах солнца.
Но как оказался на ней этот офицерский китель, она не знала.
Мой отец не мог, не в состоянии был рассказать ей, что перед тем, как его перевели на сжигание трупов, он был санитаром в тифозном бараке. В семнадцатом, самом страшном блоке их лагеря он раздавал полумертвым людям баланду и хлеб. На рукаве у него была повязка с надписью Oberpfleger[6]. Или рассказать о том, как Имре Бак постучал ему из окошка? А потом опустился на четвереньки и залаял, как бешеный пес? В Дебрецене, в утраченные навсегда времена, Имре был его лучшим другом. Он нуждался в лекарстве? Возможно. Или в добром слове. Но туда, в блок тифозных смертников, просто так было не вой-ти. Через грязное стекло отец видел, как Имре упал и красивая, светлая его голова ткнулась в лужу. Он был мертв.