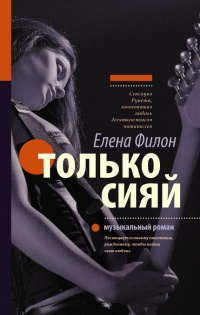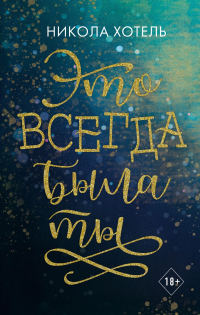Книга Явилось в полночь море - Стив Эриксон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я все никак не мог сосредоточиться на ее словах.
– Ты отвлекся, – сказала она.
– Я слушаю.
– Но ты отвлекся.
– Вовсе нет.
– Вовсе нет, – передразнила она.
– Не думаю, что в этом был какой-то великий замысел, – сказал я, – в котором и заключался весь смысл. Это и есть настоящая власть. Возможность творить совершенный произвол. Это придает ему еще больше могущества – возможность женить кого угодно на ком угодно без малейшего рационального основания. Перекраивать человеческие судьбы из-за одного его каприза. Понимаешь?
– Спорим, он просто бросил кучу имен в шляпу и стал вытягивать. Им еще повезло, что он поженил мальчиков на девочках. – Она задумалась об этом. – В своем роде это абсолютное зло.
– Вот как?
– Да, – заверила меня она, – вот как. Я знаю. Я видела зло, – тихо проговорила она, – не абстрактное зло, а конкретное и осязаемое. Я знаю, что такое зло, и могу тебе сказать наверняка: оно не в том, чтобы лежать на этой кровати в одних сапогах и пить с тобой красное вино. Здесь им даже не пахнет.
– А четыре тысячи человек, которые слепо отдают себя во власть чьих-то решений, – может, в них зло?
– Это не зло. Это вера.
– И где кончается одно и начинается другое?
Она повернулась на бок и закрыла глаза.
– Замешательство, – сказала она, завершая спор, но в то время я не имел представления, что она имеет в виду.
Мы заснули, так и не занявшись любовью. Ранним утром я проснулся от пинка сапогом и, подумав, что, может быть, стоит закрыть окно, встал, но было по-прежнему так тепло, что я оставил окно открытым, а потом в темноте стянул с Энджи сапоги и накрыл ее простыней. Я хотел было забрать у нее плюшевого мишку, которого она крепко прижимала к себе, но она пробормотала во сне:
– Я серьезнейшим образом советую тебе не пытаться встать между мной и моим мишкой.
Сидя в темноте на кровати, я заметил, что белая роза, которую мне днем подарили в Люксембургском саду, не лежит больше на столике у двери в ванную, а стоит в откупоренной бутылке вина. У меня не было представления, зачем и когда Энджи засунула розу в вино, но поскольку в бутылке еще что-то оставалось, то утром, когда мы проснулись, белые лепестки приобрели глубокий и насыщенный розовый цвет.
К следующему вечеру она переселилась ко мне. Я никогда не дурачил себя верой, что это любовь, несмотря даже на эту дурь про корейского пастора, назначившего нас близнецами по духу. Возможно, если бы я хоть на мгновение решил, что это любовь, то полностью отказался бы от всего этого. С моей стороны было желание овладеть ею; она мне это позволила. С ее стороны было желание выжить; я спас ей жизнь. Это стало моей специальностью. Я был апостолом романтики. Каждый раз, когда мне требовалось оправдать собственное существование, я мог вынуть из кармана ее жизнь и сказать: видишь вот эту свою жизнь? Я ее спас. Каждый раз, когда она чуть было не ускользала из моих рук, я мог ухватить ее в объятия, подержать ее жизнь перед ее глазами, чтобы она хорошенько ее рассмотрела, и сказать: видишь эту свою жизнь, которую я спас? Пожалуйста, не надо благодарностей. Не стоит. А куда это, кстати, тебя несет, как думаешь?
– По правде говоря, – отвечала Энджи, – представления не имею.
Потому что она была слишком молода, чтобы знать, кто она такая, не говоря уж о том, куда ее несло, и слишком мудра, чтобы притворяться, будто это не так. Ее сущность всплывала на поверхность отдельными осколками – то ее способности к высшей математике, то как девочкой ее звали Саки, а однажды – где, в Лондоне? – спустя месяцы после того, как мы очутились вместе, она села за пианино в чьей-то квартире и вдруг откуда ни возьмись заиграла Дебюсси, Листа и Дюка Эллингтона. Она держалась за маленькую девочку, кроющуюся в ней, и иногда прижимала к себе этого долбаного плюшевого мишку, словно его невинность могла очистить ее жизнь от тех моментов прошлого, когда той же самой рукой она щелкала где-то черным кожаным хлыстом. Пыталась ли она изжить в себе ту отполированную утонченность, ту жесткость в ее натуре, что возникла после того, как она – по меньшей мере однажды – пыталась в юности покончить с собой (если я правильно читал между строк), и после чего-то еще, что до сих пор давало о себе знать периодическими ночными кошмарами? Она вешала ярлыки на свои эмоциональные реакции. Вместо того чтобы смеяться, она говорила «ха-ха» лишь с легким намеком на веселье в глазах. Вместо того чтобы простонать, она говорила «стон», выражая глазами что-то среднее между раздражением и презрением. Она переводила свои чувства сначала на язык, понятный ей самой, а потом и окружающим, – и, сказать по правде, это, вероятно, и позволило нам продержаться вместе так долго, потому что я мог общаться с ней так, будто ее чувства были всего лишь дорожными указателями на трассе наших отношений. Конец полосы, объезд, прочие опасности. Снижение скорости. Стоп.
Ее мимолетные откровения о родителях… их ранние ожидания… Намеки на горький и ожесточенный разрыв с ними, по меньшей мере три или четыре невадские зимы назад, и из этих намеков я смог заключить, что с тех пор родители, видимо, не знали, что с ней, жива ли она. Полагаю, это объясняет, почему поначалу Энджи было плевать, спас я ей жизнь или нет. Может быть, парижские улицы и угрожали ее жизни, но в Нью-Йорке что-то пригрозило ее душе. В этом заключалось истинное различие между нами: она ценила свою душу выше, чем физическое существование, а я – наоборот. Это не казалось такой уж большой несовместимостью. Казалось несущественной разницей во мнениях, учитывая то, что она никогда не противоречила мне, что секс между нами никогда не претендовал на имя любви. Наше различие было несущественным, по сравнению с каким-то действовавшим между нами эротическим радаром, который вел мои губы в темноте прямо к ее губам и сводил все другие языки к невнятным звукам.
– Как самонадеянно с твоей стороны, – говорила она, – считать, что мой рот всегда именно там, где тебе хочется. А что, если я засну головой в другую сторону?
– Я бы стал целовать твой палец на ноге. И решил бы, что твоя голова стала маленькой-маленькой.
– Ха-ха, – сказала она, и в темноте это звучало еще более серьезно, так как я не видел ее глаз.
Поскольку я ценил свое физическое существование выше, чем душу, мне не было нужды в воспоминаниях. Поскольку я ценил свое физическое существование выше, чем душу, то не искал маму после ее исчезновения. Поскольку я ценил свое существование выше, чем душу, то так и не увиделся с отцом до самой его смерти. Поскольку я ценил свое существование выше, чем душу, то всеми силами избегал одного уголка в Париже всего в полумиле от «Липпа», дальше по бульвару. Однажды во время прогулки мы чуть было не забрели туда, и я вдруг понял, что нахожусь в одном или двух кафе от того самого места. Я резко повернул и потащил Энджи за собой по бульвару Сен-Мишель к набережной.
– В чем дело? – спросила она.