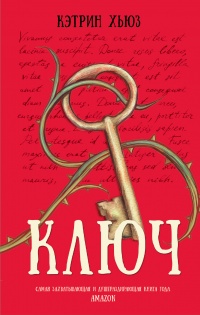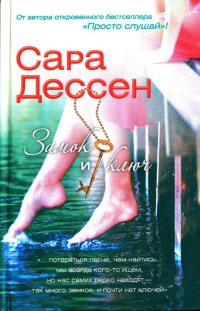Книга Лед и вода, вода и лед - Майгулль Аксельссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Жалко.
— Что такое?
— Уже десятый час. А то можно было бы зайти куда-нибудь перекусить. А теперь все уже закрыто.
— А ты что, можешь?
— Что именно?
— Вот так зайти перекусить. Там на тебя не накинется свора девиц?
Значит, по крайней мере знает, кто он. Хорошо. Он пожал плечами:
— Ничего страшного.
Она тут же улыбнулась в ответ:
— Точно? А посмотришь, как эти девицы набрасываются, так правда делается страшно.
Он хотел остановиться, но поборол порыв и пошел дальше.
— А ты что, это видела?
— Конечно. Много раз. Обожаю музыку.
— Мою музыку?
Тьфу. Не надо было этого говорить. Она могла подумать, что он напрашивается на комплимент. Но если так, она этого не показала, ее голос был совершенно серьезен, когда она ответила:
— Всякую музыку. Я вообще-то не особенно музыкальная. Но все равно музыка для меня многое значит. Это ведь чувства. Правда же?
Что на это отвечают? Легкая тревога холодком пробежала по позвоночнику, Бьёрн снова пожал плечами и что-то пробормотал. Оба шли так медленно, что велосипедная фара начала мигать. Сам не зная зачем, он вдруг наклонился и отстегнул динамо от колеса. Они уже прошли ресторан «Страндпавильон» и вот-вот выйдут к порту и в город.
— Где ты живешь?
Теперь она снова улыбнулась, глаза блеснули.
— А что?
Он не мог устоять перед этой улыбкой, не улыбнуться в ответ.
— Да ну, я думал, ты идешь домой. И что я бы тебя проводил.
Она рассмеялась:
— Ладно. Если у тебя сил хватит.
— Что, так далеко?
Еще один сияющий взгляд.
— Возле Лазарета.
Он изумленно поднял брови:
— А почему ты пошла этой дорогой? Такой крюк?
Она схватила его за локоть и прижалась щекой к шерстяному рукаву.
— Ты сам так захотел, — сказала она и рассмеялась. — А я хотела того же, что и ты.
Тогда он остановился возле фонаря, наклонился и поцеловал ее.
— Пойду-ка я укладываться, — сказал Биргер и ухватился за подлокотник кресла.
Инес не отрывала взгляда от телевизора.
— Да, давай.
— А ты?
— Мне спать не хочется.
Биргер продолжал сидеть, готовый встать, но не вставая.
— Будешь его дожидаться?
Инес взглянула на него отсутствующим взглядом, попыталась изобразить безразличие.
— Что? Да нет, просто пока спать не хочется.
Биргер все никак не вставал.
— Обычно в это время тебе уже хочется спать.
Инес пришлось сделать глубокий вдох, чтобы обуздать собственное раздражение. Спокойно, все хорошо. Надо сохранять спокойствие.
— Возможно. А сегодня что-то неохота.
На миг стало тихо. Она не смотрела на него, но все равно знала, что он продолжает сидеть в той же позе. Он так делает, когда хочет настоять на своем. Он всегда так делал. Оттого что она говорила громче и больше, ее считали главной в семье — но это было не так. Они были как стекло и резина. Она из стекла — жесткая, но ломкая. Биргер был из резины. Толстой резины. Мягок, податлив, но прочен. Он терпел все. Все выдерживал. И пересиливал всех.
Впрочем, Биргера в свое время воспитывали для другого. Ему предстояло стать не преподавателем истории и обществознания, человеком поразительной целеустремленности, а унылым сапожником, копией собственного отца и продолжателем его дела, человеком, отвергнувшим надежду. То было наследие куда более важное, чем деньги за усадьбу, принадлежавшую родителям матери, те десять тысяч крон, что превратились в счет в Сберегательном банке Ландскроны и которые нельзя было трогать, даже когда отцу после пятидесяти лет понадобилось вставить зубы. Старик предпочитал питаться размоченным в воде хлебом, складывая пятикроновые бумажки одну к другой в пыльную стеклянную банку, стоявшую в самом темном углу его похожей на пещеру мастерской. Когда он накопил на вставные зубы, то уже почти разучился жевать.
Дома у сапожника угрюмость была первым жизненным правилом, а следом шла недоверчивость. Ревнивые боги денно и нощно несли дозор над этим кровом, готовые поразить и покарать всякого, кто засмеется слишком громко или предастся чересчур легкомысленным мечтам. Поэтому мама Биргера расплакалась, когда он в десять лет сумел уговорить учительницу прийти к ним домой, чтобы уговорить его родителей дать сыну полное среднее образование. Это был осознанный стратегический ход, объяснял он Инес много лет спустя. Уже в десять лет он знал, что получит высшее образование, но знал и то, что отец никогда не позволит ему подать заявление в гимназию без чьего-нибудь авторитетного вмешательства. Не то чтобы та учительница являлась каким-то особенным авторитетом, она ведь была «благодатница», как называли в Ландскроне сектантов, посещавших молитвенные собрания в церкви Троицы, а сапожник — атеист и социалист — говорил, будто презирает «благодатников». Но Биргер знал уже тогда, что все это одни разговоры. На самом деле сапожник робел, едва человек мало-мальски образованный — да хотя бы закончивший среднюю школу — приближался к его мастерской. И только когда такие клиенты закрывали за собой дверь, он принимался в полный голос обличать этих заносчивых графьев.
Инес настолько часто возвращалась в мыслях к тем событиям, что словно уже их сама видела. Она знала, что все вообразила сама и эти образы вряд ли соответствуют реальности. И все равно не могла отделаться от ощущения, что именно так все и было. Вот бледная и тощая женщина с пучком на голове топчется на свежевыстиранном тряпичном половике в кухне у мамы Биргера. Без уверенности и без особого желания, потому что этот сын сапожника не настолько уж одаренный, просто очень прилежный и невероятно упрямый, настолько, что она даже сама не понимает, как ему удалось преодолеть ее сопротивление и заставить отправиться в эту экспедицию. Но обещание надо держать, особенно тому, кто сподобился встретить Иисуса, поэтому она наконец откашливается и начинает говорить.
У посудного столика стоит мама мальчика и промокает уголок глаза подолом фартука, она стесняется, что она — это она и что живет где живет, что у нее течет из носа, и что в раковине картофельные очистки, и что сапожник швырнул газету на обеденный стол — это так неопрятно! — и что сын подвел ее, приведя домой свою учительницу, не предупредив, не дав матери возможности еще раз отдраить полы и перестирать занавески.
А у обеденного стола сидит небритый сапожник и посасывает щеки, он бормочет о расходах на школу и дорогих книжках, но лишь до того момента, пока учительница его сына не заговорила о благотворительном фонде «Рождественские гномы», таком щедром к малообеспеченным ребятам. Когда-то в детстве сапожнику и самому пришлось походить в полосатом костюмчике — пожертвовании благотворителей, — и с того дня он возненавидел «Рождественских гномов» так люто и глубоко, что наконец выпрямляется и встает, уперевшись кулаками в обеденный стол. Он — едрена корень! — не такая рвань, как кажется. И еще не зная, как все сложится, ухитряется в следующей фразе сам себя убедить, что у него ведь достаточно средств, чтобы малец и дальше ходил в школу, хоть и до самых выпускных экзаменов. Пусть намотают себе на ус все эти старухи из «Рождественских гномов» и все остальные бабки в этом городе!