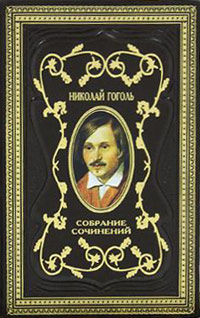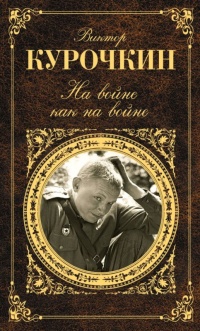Книга Большая перемена [= Иду к людям ] - Георгий Садовников
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так что жить только ради самого себя не имело смысла. Уж коль у меня самого ничего не вышло, пусть всё получится у других. Хотя бы у моего старосты Федоскина Ивана. К тому же таков был наказ директора — вернуть человека в школу. Вечером я взял у нашей секретарши координаты ученика и на следующий день поехал к Федоскину на его компрессорный завод.
Мои первые впечатления о незнакомой заводской жизни начались прямо с проходной, там меня долго выдерживала огромная (везёт мне на крупных женщин!) вахтёрша в чёрной вохровской шинели, будто настаивала молодое вино. Её могучий бюст преграждал вход на заводской двор надёжнее железобетонного дота. Она стояла ко мне и профиль, я пригнулся и попытался проскочить под её бюстом, но богатырша выставила бедро, толстое и твёрдое, точно полено. «Без пропуска не пущу… А это меня не касается», — бубнила сторожиха заводского добра в ответ на мои объяснения. Она, видать, не любила нас, педагогов, с детских времён и сейчас с наслаждением брала запоздалый реванш за все свои двойки. И возможно, спасала Федоскина от нашего брата. Вахтёрша была страшно разочарована, когда я, обнаружив на одной из стен внутренний телефон, обзвонил ползавода, и на мой отчаянный зов прибежал молодой деятель из завкома. Профсоюзник имел вид чрезвычайно занятого человека. Мне он стремительно протянул чумазую, — но от чернил, — ладонь, а недовольной вахтёрше мой пропуск. Всё это парень умудрился проделать как бы в один приём — синхронно: одно правой, второе левой рукой. За такую завидную прыть и почти цирковую ловкость его, видать, и выбрали, а может и назначили, на общественную работу.
Забегая вперёд, скажу: покидая завод, я шепнул огорошенной церберше: «И всё же я вас люблю!»
А пока мы вышли на заводской двор, и я коротко изложил причины визита. Профсоюзник огорчённо покачал головой:
— Я только позавчера толковал с начальником цеха, ведь спрашивал как родного: ну что, мол, Федоскин, ходит в школу? Так тот даже завёлся: дескать, какое имеете право сомневаться. Эгоистичный мужик, узко мыслит. Ему выгодно, когда Федоскин пропускает школу — можно попросить остаться и после смены. Ваня не откажет. Федоскин у него ровно сказочный джинн: попроси — исполнит. Особенно в конце квартала, если план летит к чертям. Золотой парень! Гляньте-ка!
Он обратил моё внимание на стенгазету, пришпиленную у входа в цех, и, видно, на тот случай, если я недостаточно быстро соображаю, подстраховался — ткнул указательным пальцем в фотографию улыбающегося парня. У того скулы разъехались на весь лист. К фотографии неизвестный художник (мне неизвестный) подрисовал короткое мужское туловище в рубахе, подпоясанной витым шнуром, с гитарой в руках.
— Вот и он сам во всём блеске! — пояснил заводской активист. — Красив, а? Красавец, красавец!
Под рисунком помещён текст, его, надо полагать, исполнял солист, наяривая на гитаре: «Эх, рац, ещё рац, ещё много-много рац!»
— Ошибка! Правильно: «Эх, раз, ещё раз». Старинный романс. Сейчас исправим. — Я полез в портфель за авторучкой.
— А вот этого делать не следует! — заволновался активист, загораживая собой стенгазету. — «Рац» — значит рационализаторское предложение, — сказал он, глядя на меня с жалостью, так, по-моему, смотрят на слабоумных. — Федоскин — рационализатор. Наш самородок!
Я следом за ним шагнул в цех, и мои уши заложило от оглушительного грохота и лязга.
Мой провожатый что-то проговорил, но я разобрал только маловразумительное: «аа… оо… ннн…»
— Что вы сказали? — заорал я, тщась перекрыть грохот и уступая в этом неравном соревновании.
Он повторил. Я только развёл руками: мол, моя твоя не понимай.
Профсоюзный вожак сплюнул на пол в металлическую пыль, вытер рот рукавом и после столь основательной подготовки наклонился к моему уху:
— Федоскин, говорю, в том конце.
Он повернулся и махнул рукой: «Следуй за мной». Я, опасаясь испачкаться, пробирался через скрежещущий лабиринт. В одном металлическом закоулке я споткнулся о ржавую станину и еле удержал равновесие. Ухо постепенно привыкало к шуму.
— Никола, глянь: балерина Уланова!
Это, конечно, в мой адрес и по поводу того, как я задираю ноги и извиваюсь телом, боясь задеть за разные вращающиеся диски и оси. Для чего они вращаются и как их называют, я не имел не малейшего представления. И вообще меня окружал незнакомый мир. Я не знал, как держаться на новой планете.
Я понимал: смотрюсь среди этой работающей техники довольно нелепо: зелёная велюровая шляпа, узкие брючки. И уж совсем здесь не к месту мой ослепительно жёлтый портфель. Рабочие рассматривали пришельца с откровенным любопытством. На мгновение я представил себя как бы со стороны и даже повеселел — и впрямь картина получалась очень смешной.
Провожатый подвёл меня к инопланетянину с ничем не примечательным лицом. Разве чего-то стоили озорные зеленоватые глаза. Но и весёлые искры в его зрачках, возможно, были вызваны моим комичным видом.
— Любите и жалуйте, наш Ваня Федоскин.
— Привет! — Токарь (а может, фрезеровщик — я в этом ни бум-бум) протянул мне тёмную широкую ладонь, предлагая обменяться рукопожатием.
Я на мгновение замешкался, нет, я не боялся испачкаться. Наоборот, меня испугало, а вдруг Федоскин побрезгует моей мягкой и белой ручонкой. Я воровато, исподтишка засунул свою тонкую кисть в обхватистую лапищу Федоскина и замер. Иван её потряс, будто прикидывал, а чего я стою на самом деле, и, взвесив, отпустил. «Ну и как ваша проверка? Я выдержал? Вы довольны?» — такой мне хотелось задать вопрос, с иронией конечно. Но он опередил, небрежно поинтересовался:
— Опять журналист? Откуда? «Советская Кубань» или «Комсомолец Кубани»? Могли бы из другой. Да хоть из самой Москвы. Мне, в общем-то, всё равно. Я для разнообразия.
Я отрекомендовался, демонстрируя чувство собственного достоинства. А в ответ вместо восторга (пришёл родной учитель!) физиономия Федоскина выразила откровенное разочарование.
— Знаю. Сейчас начнёте: почему да почему. Ну-ну, я слушаю.
— И начну, — признался я, прижатый к стенке, и вяло принялся его корить и так и этак: — Ай-яй-яй, нехорошо пропускать уроки. Товарищ Федоскин должен исправиться, усвоить в конце-то концов: ученье — свет, а неученье — понимаете сами. Не верите, спросите у любого ребёнка, он вам подтвердит. И мне, взрослому, неудобно повторять такие ветхие, простите, уже зачуханные от частого употребления истины. А товарищ Федоскин тоже вполне взрослый человек, уж ему бы следовало знать…
Перед Федоскиным с бешеной скоростью неистовствовал станок. Крутились какие-то колёсики. Вилась замысловатыми тусклыми кольцами стружка. По блестящему стальному стержню ползла густая маслянистая жидкость. Измазанный этой жидкостью и усыпанный тёмной сверкающей россыпью металлической пыли, сильный, великолепный Федоскин не отрывал взгляда от станка и орудовал руками, игнорируя мои педагогические речи: мол, говори, говори, пока не надоест. Я кружился возле него жалкой мошкой. Я уже словесно изнемог и призывно поглядывал на вожака. А тот, переоценив мои возможности, занялся своей общественной работой — метался по цеху, в одном углу ругал кого-то, в другом — призывал к трудовому подвигу.