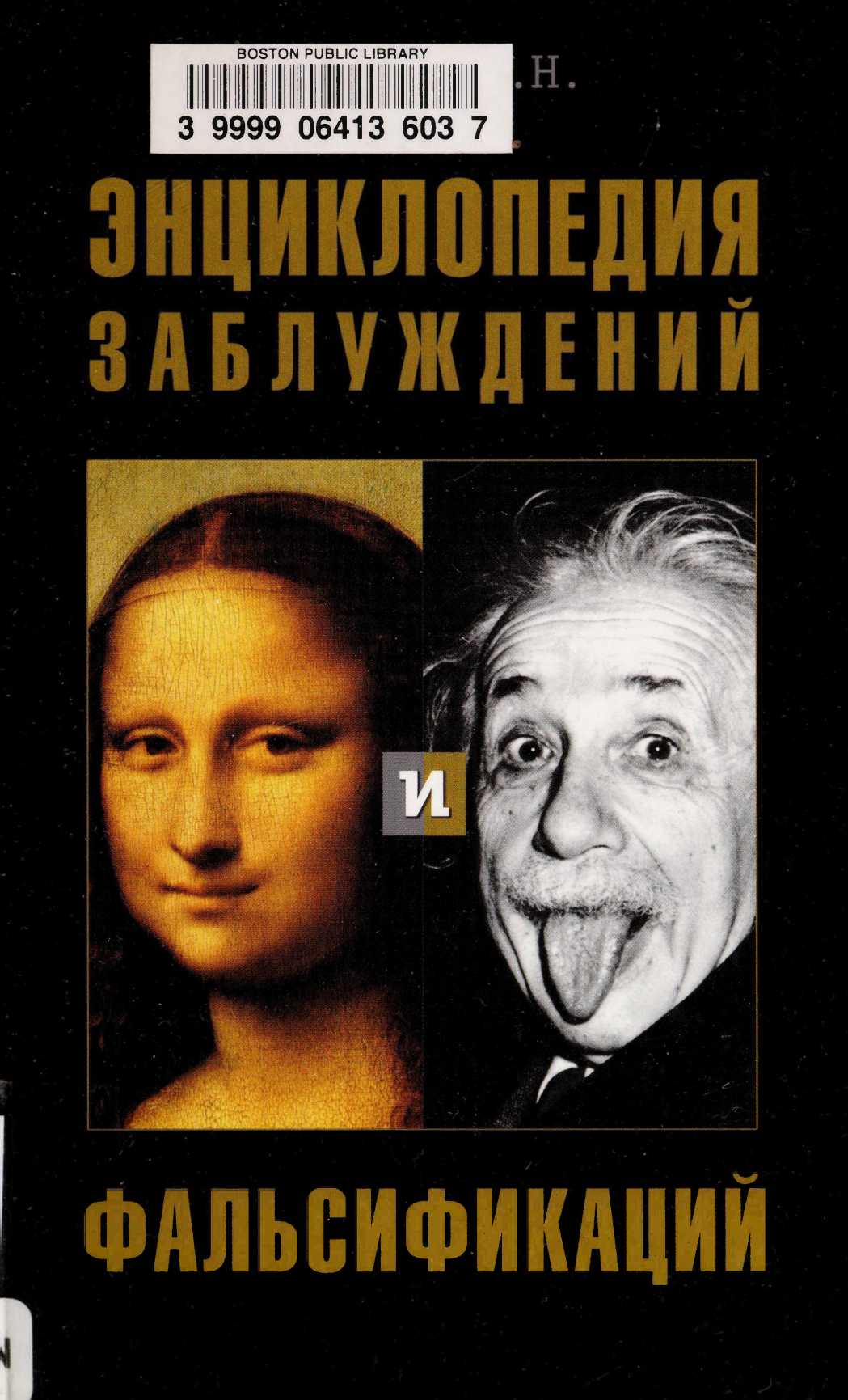Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«В каждом человеке пропасть задатков самоубийственного. Знал и я такие поры, в какие все свои силы я отдавал восстанию на самого себя. Этим можно легко увлечься. И это знаю я. За примерами далеко ходить не приходится. В одном из таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация, отнятие живейшей части своего существования. Вы думаете, редко находят на меня теперь такие состояния полной парализованности тоскою, — когда я, каждый раз все острей и острей, начинаю сознавать, что убил в себе главное, а потому и всё? Вы думаете… на самом деле это не так, и в поэзии — мое призвание? О нет! Стоит мне только излить все накипевшее в какой-нибудь керосином не просветленной импровизации, как жгучая потребность в композиторской биографии настойчиво и неотвязно […] [25] предъявляет свои права. Опешенность перед долголетнею ошибкой достигает здесь той силы и живости, с какой на площадке тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома ключах или о печке, не переставшей гореть в минуты выезда. Я бегу этих состояний как чумы.
Содеянное — непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решенья своей судьбе и потом отменяешь их, уверенный в возможности их восстановленья, — годы заигрыванья со своим даймоном — миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра 27-й день моего рождения».
Я так перепился, что пришлось заночевать у Пастернаков. Остался у них завтракать и обедать. Вдруг утром, то есть нашим утром поздно проспавшихся
{-92-} людей, часов в двенадцать, — звонок из секретариата председателя Реввоенсовета, то есть Наркомата обороны. Л. Д. Троцкий-де просит к себе Бориса Леонидовича Пастернака в час дня «на аудиенцию» — так и сказали. Троцкий писал тогда очерки о советских писателях и поэтах, каковые им печатались в «Правде» (по два подвала на каждого литератора, будь то Маяковский, Есенин или Безыменский). Ими принято было тогда восторгаться как очерками, будто бы отличавшимися независимостью мысли «большого человека». На самом деле это были самоуверенные, щеголевато-фразистые «эссейи», пустопорожние до тошноты. Теперь очередь дошла до Пастернака.
Он спешно брился, лил воду на еще хмельную голову, полоскал рот остывшим черным кофе; синий пиджачок был вычищен и отутюжен; надета белая подкрахмаленная рубашка. Но голова звенела по-прежнему.
Прислан за ним был мотоцикл с коляской (такие были времена). Мы дожидались его возвращения.
Он вернулся домой уже к двум часам. «Аудиенция» продолжалась минут тридцать. Пастернак после взаимного «здравствуйте» с прибавлением имен и отчеств начал так:
— Простите, я к вам после прощальной ночной попойки.
— Да, вид у вас действительно дикий, — безапелляционно отчеканил нарком, любезно оскалив свои челюсти. Предотъездная взбудораженность Пастернака при полном отсутствии привычного уже тогда подобострастия ему и впрямь должна была показаться неслыханной дикостью.
Позднее, но до возвращения Сергея Прокофьева в Россию, я вспомнил этот краткий приговор, когда сестра Троцкого, Ольга Давидовна Каменева, обычно чинно скучавшая на концертах, получив отрицательный отзыв о музыке Прокофьева от двух сопровождавших {-93-} ее лиц, воскликнула после исполнения его симфонической сюиты «Три апельсина»:
— Дикая музыка! Ничего в ней не понимаю! Она не понимала никакой музыки, отыгралась за всю некогда испытанную скуку!
Далее Троцкий спросил:
— Скажите, а вы правда, как мне говорили, идеалист?!
— Да, я учился на философском отделении Московского университета, а потом — не совсем потом! — у Когена в Марбурге. Чудесный городок с густым отстоем старины. Я и в нем поживу хоть день-другой во время моей побывки в Германии.
— Но лучше, если у вас в голове не будет этого «густого отстоя». — И Троцкий в «доступной форме» изложил Пастернаку «свою» точку зрения на идеалистическую и материалистическую философию и патетически, с необыкновенной либеральной «широтой и независимостью мысли» (как в парижском кафе социалистов), воскликнул:
— Не так уж даже важно, кто прав, кто виноват. Важно, что исторический материализм Маркса взят на вооружение социальными силами, способными преобразить мир.
— Я вас понял.
— Я вчера только начал продираться сквозь густой кустарник вашей книги. Что вы хотели в ней выразить?
— Это надо спросить у читателя. Вот вы сами решите.
— Что ж! Буду продолжать продираться. Был рад нашей встрече, Борис Леонидович! До следующего свидания, когда вы вернетесь в Страну Советов.
— Я тоже был рад, и очень. И — обязательно увидимся!
Троцкий, видимо, так и не продрался сквозь «густой кустарник» поэзии Пастернака. Очерка о Пастернаке нет в его книге. И они больше не увиделись. Так оно и лучше, конечно! {-94-}
…На вокзал я не поехал. Борис Леонидович этого не захотел:
— Коля, поймите, я уже отбыл. Все уже нереально. Лучше здесь обнимемся на прощанье!
Я остался в Москве. Без него. С ощущением вдруг наступившей пустоты.
Я постоянно чувствовал свое духовное одиночество, хотя и встречался с добрыми друзьями, с моей будущей женой, к которой окончательно перебрался только ранним летом 1923 года, с сестрой Ириной Николаевной и ее мужем и уж конечно со всеми членами моей сильно поредевшей семьи. Но внутреннюю непрерывную беседу, тогда одностороннюю, все продолжал с моим великим другом, как потом, когда наши встречи стали более редкими, а с конца 1956 года — и почти вовсе прекратились.
Эту беседу я продолжал вести и после его смерти — в первое время по ночам, обливаясь слезами, а позднее спокойнее, почти как прежде. Часто вижу его во сне. Как всегда, ему радуюсь, хоть и не верю в реальность его прихода, помня и сквозь сон, что он умер. И все же: он в двух шагах от меня и сразу же начинает говорить, ничем не обнаруживая своей непричастности к нашей земной жизни. Он удивленно вглядывается в мерцание свечей на рождественской елке и вдруг произносит, как будто столкнувшись с новым чудом божьего мира: «Поглядите, Коля, на эту нежданную примесь электрического света. Видите, как по ветке пробегает зеленый «зайчик»? Это от глазка (он, наверное, имеет другое, техническое, название) на Леничкином радиоприемнике».
И правда, на елке играет дрожащий зеленый зайчик. {-95-}
И не один, их целая стайка. Да и не на одной только ветке, а по всем ветвям обряженного дерева, споря со светом восковых церковных свечей. Я задыхаюсь от безбрежного счастья и обожания и, как всегда, на себя досадую за то, что без его указки ничего этого не видел. Но он не замечает моих растроганных слез. Это потому, что он при жизни никогда не видел меня