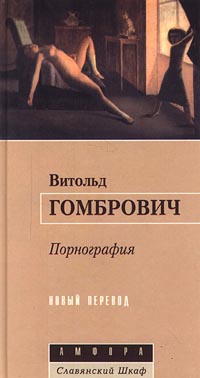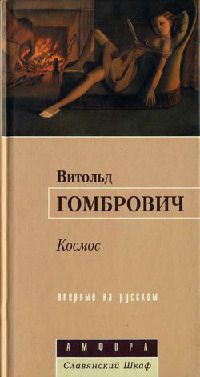Книга Дневник - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
О себе, о том времени, о своих первых рассказах он упомянет на склоне лет в «Завещании», задуманном как введение в труды и дни: «…это произведения, которые Снимают вину, а может, даже и Отпускают грехи. На заре моего творчества Форма появилась как чуть ли не божественная сила, отпускающая грехи. Другими словами: во мне могут быть все возможные уродства, но если я умею играть ими, я — король и властелин!
В реальной жизни я был путаный, никакой, беспомощный, отданный во власть анархии, заблудившийся на бездорожье. Зато на бумаге я хотел быть великолепным, занимательным, торжествующим… но прежде всего — чистым. Очищенным <…>
Эти-то изыскания и привели меня к сути дела. Я не имел права писать книгу „реалистическую“. Единственное, что я мог себе позволить, — написать пародию. В ней стиль является пародией стиля. Здесь искусство прикидывается искусством и передразнивает искусство. Логика бессмыслицы — это пародия смысла и пародия логики. А мой пресловутый триумф — пародия триумфа».
В одном по крайней мере отношении это суждение несправедливо. Действительно, стиль его рассказов и «Фердыдурке» зачастую пародийный, к реальности он добирается окольными путями, но как упорно он это делает, как его новаторский стиль удивительно глубоко уходит в традицию! Лучшее доказательство — неподвластность времени. Пародия, особенно пародия на социальные группы и их манеру речи, очень быстро устаревает. Но довоенные произведения Гомбровича кажутся нам написанными только вчера или даже завтра. Фразы в них дышат. Слова подобраны потрясающе точно. Фрагменты, некогда казавшиеся нам чудачеством или опасно смелым экспериментом, уже вошли в повседневный язык, стали одной из основ нашего стиля, современного польского языка.
В своих ранних произведениях Гомбрович искал себя, свой голос, свое право на голос, форму, которая была бы и его собственной, и понятной другим, и делал он это прежде всего путем компрометации тех форм, которые пытались взять верх над ним и подчинить его своим целям. Он убегал с мордой в руках[318]от нападок старческих и не терпящих возражения языков, провоцировал эти нападки для того, чтобы укрепить собственную критическую приватность и независимость. О написании и издании «Фердыдурке» он сказал, что эти роды дорого ему обошлись. Это произведение стало не только его личным манифестом свободы, но и — он согласился с определением, данным Бруно Шульцем, — «гротескной поэмой о муках человека в прокрустовом ложе формы».
Атака на форму и борьба за подлинность личности, борьба за право голоса были частной инициативой Витольда Гомбровича, человека приватного, желающего и рассказать о себе и что-нибудь узнать о себе, потому что эту тему он хорошо знал; но эта духовная работа проходила в конкретном месте и в конкретное время, в мрачное время, в конце 1930-х годов, в Польше, окруженной двумя тоталитаризмами, подтачиваемой внутренним фанатизмом и слабостями, в Польше, чья ситуация определялась традициями и текущим моментом. Как говорить в этих условиях, как защитить свою независимость и свободу, как получить право голоса? А ведь именно к этому стремился Гомбрович уже в довоенных произведениях.
Борьба за обретение собственного голоса была в этой ситуации чем-то несравнимо более существенным, чем всего лишь участием в литераторских играх и спорах, она приобретала экзистенциальное и политическое значение. В «Завещании» Гомбрович пишет о тех предвоенных годах: «Я видел и не верил собственным глазам, как ведущая военные приготовления Европа — особенно Центральная и Восточная — вступала в период демонической мобилизации формы. Гитлеровцы и коммунисты фабриковали для себя грозное фанатическое обличье; производство вер, энтузиазмов, идеалов сравнялось по размаху с производством пушек и бомб. Слепое повиновение и слепая вера стали обязательным атрибутом не только казармы. Их искусственно вводили в искусственные состояния, и всё — а прежде всего сама действительность — было брошено на дело наращивания силы. Что это? Яркие образчики глупости, циничной лжи, исступленное переиначивание самой очевидной очевидности, атмосфера дурного сна? Невыразим ужас этой чудовищности. Предвоенные годы, возможно, были даже еще большим позором, чем сама война».
Он называл довоенное время «периодом демонической мобилизации формы». Против нее он вел собственную войну, защищался гротеском в рассказах, в «Ивоне, принцессе Бургундии», в «Фердыдурке». Когда тотальная мобилизация формы, казалось, окончательно победила, а стиль писателя — индивидуальный свободный польский голос, казалось, был окончательно задушен, Перст вознес Гомбровича и перенес его на другое полушарие «под знойное небо Аргентины». Видимо, именно в таком испытании нуждались его стиль, его голос. Если ему, Гомбровичу, предстояло реализовываться, дав отпор демонической мобилизации формы, то, возможно, ему следовало стать в гораздо большей степени свободным от мобилизации, в гораздо меньшей степени публичным, стать собой, в удалении от навязывающей ему свои склеротичные формы родной культуры, искушаемой новыми фанатизмами и противостоящей им?
6.
В «Дневнике» он описал путешествие из Польши в Аргентину. Он был как пьяный, как в тумане. Но не алкоголь вызвал это помрачение. «Мое положение на европейском континенте с каждым днем становилось все хуже и туманнее», — сказал он о предвоенной поре. Произошло — и случайное, и неизбежное — путешествие в Аргентину. Он часто размышлял о смысле произошедшего. Убегал от себя, от собственных призраков, от собственной формы и от фанатической мобилизации формы, целящейся в его личность, в его голос. Бегство от себя, от прошлого было растянутым во времени, на годы, на всю жизнь, поиском себя, своей личности, своего голоса. Установлению отношений с собой прежним, разговору с собой, рассказу себе самому об этом трансатлантическом путешествии он посвятил самые прекрасные страницы своего произведения. Он расширил «гомбровичевское пространство» между собой прежним и собой теперешним, пытался заговорить с собой, подать знак — себе прошлому, себе будущему. Трансатлантическую историю, историю Витольда Гомбровича, он рассказывал на самые разные голоса, философски и шутовски, потаенно и открыто, порнографично и космично, в драме и в гавенде (таков «Транс-Атлантик»), в романах, начинающихся с фразы: «расскажу вам о другом моем приключении», но прежде всего и лучше всего — в «Дневнике».
О первом трансатлантическом путешествии он писал в первом томе «Дневника»: «А когда на „Хробром“ я плыл вдоль немецких, французских, английских берегов, я слышал, как все эти земли Европы, застывшие в страхе перед вот-вот готовым родиться преступлением, в удушливой атмосфере ожидания, казалось, так и кричали: „Будь легкомысленным! Ты ничего не значишь, ты ничего не сможешь сделать, тебе осталось одно — пьянство!“ И я упивался; не обязательно алкоголем, я упивался на свой манер и плыл — пьяный и вконец одурманенный…
Потом разбились скрижали законов, посыпались границы государств, разверзлись пасти слепых сил, а я — о, Боже! — вдруг в Аргентине, совершенно один, оторванный, потерянный, заброшенный, без имени и звания. На душе было тревожно и легко, что-то во мне говорило: бодро встречай тот удар судьбы, который метит в тебя и выбивает из привычного порядка вещей. Война? Гибель Польши? Судьба близких, семьи? Моя собственная судьба? Мог ли я переживать все это, если можно так сказать, нормально, я, знавший обо всем этом заранее и давно? Я не кривлю душой, утверждая, что в течение долгих лет носил в себе катастрофу, а когда она разразилась, я сказал что-то вроде „как, уже? а я что говорил?“ и понял, что пришло время воспользоваться той способностью, которую я воспитал в себе, — способностью расставаться и покидать. Ничего ведь не изменилось: ни этот космос, ни эта жизнь, у которой я был узником, не изменились из-за того, что нарушился некий уклад моего бытия».