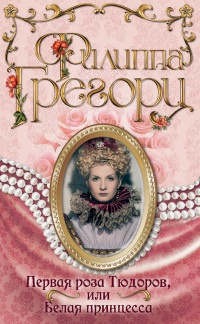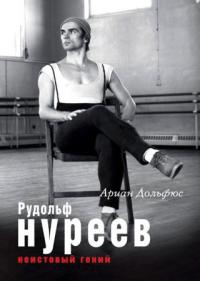Книга Рудольф Нуреев. Жизнь - Джули Кавана
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он вставал, чтобы продемонстрировать то или иное па, но падал набок, а голос его не поднимался выше шепота. Слишком встревоженный состоянием друга, чтобы думать об исполнении, Шарль Жюд сказал Рудольфу: «Извини. Я не могу исполнять твою «Баядерку». (Его роль отдали Лорану Илеру, который был на десять лет моложе, – Рудольф считал, что такое решение «причинило Чарльзу боль».)
За два или три дня до премьеры Елене Траилиной, которая отвечала за составление программ Парижской оперы, позвонил помощник Пьера Берже и попросил передать Нурееву, что он не будет дирижировать «Баядеркой». «Президент нанял другого». Предчувствуя реакцию Рудольфа, Елена, в свою очередь, позвонила Мишелю Канеси. «Берже боялся сам говорить с Рудольфом.
Я не боялась, но, если я скажу ему, он решит, что подобный ход вызван художественными причинами, а настоящая причина – его здоровье».
Помня, сколько раз в прошлом пациент с презрением отвергал его рекомендации, Канеси в смятении приехал на набережную Вольтера.
«Вы уверены, что хотите дирижировать на премьере?» – «Да, а что?» – «По-моему, для вас это довольно опасно. Помните, как вас утомил Нью-Йорк? Если вы не выдержите, для танцовщиков это будет катастрофой. Поэтому советую вам не дирижировать. Мы можем смотреть спектакль из маленькой боковой ложи». Он пришел в ярость. «Не засирайте мне мозги!» – А потом зазвонил телефон – Карла Фраччи из Рима, – и я услышал, как Рудольф говорит: «Я чувствую себя отлично, но мой врач не хочет, чтобы я дирижировал, поэтому я просто посмотрю премьеру». В его голосе я услышал изрядную долю облегчения. В глубине души он понимал, что не справится».
На генеральной репетиции 7 октября Рудольф лежал на диване за кулисами; рядом с ним находились Мод, Дус и Глория. Когда в конце действия Изабель Герен ушла со сцены, Марио Буа видел, как она, рыдая, бросилась к Рудольфу в объятия. «Я никогда не забуду того мига; лицо сфинкса, неподвижное, ничего не выражающее, глядящее вдаль». Объяснений может быть несколько. Хотя Герен хвалили за возвышенную интерпретацию роли Никии, она вовсе не хотела идти навстречу во время дебюта Кеннета в «Лебедином озере». Кроме того, Рудольф не любил экстравагантных проявлений чувств – «тебе не разрешали попрощаться». И наконец, было уже поздно. «В Опере я ждал. Если танцоры и любили меня, они не говорили мне об этом. А я в глубине души обращался к ним: придите, обнимите меня. Наконец я купил собаку».
В день самой премьеры, 8 октября, Рудольф лежал, обложенный подушками, в ложе справа от сцены. С ним были Канеси, Луиджи, Марика и Жаннет; две последних завоевали положение на вершине иерархии из семи женщин, которые помогали ему подготовиться к визиту в театр. В другой ложе сидела Нинель Кургапкина с хореографом Юрием Григоровичем[208] – Гамзатти и Золотым идолом из спектакля Кировского театра 1959 г., в котором Рудольф танцевал партию Солора. По словам Платель, в зале сидела «особенная публика – она составляла всю его жизнь». В зале были Розелла Хайтауэр, Виолетт Верди, Джон Тарас, Ноэлла Понтуа, Ролан Пети, Гилен Тесмар, Пьер Лакотт, Антони Доуэлл, Сильви Гийем «и все парижские Ротшильды». А в первом антракте, поскольку Рудольф по-прежнему лежал в своей ложе, многие старые друзья и коллеги выстроились в очередь, чтобы поздравить его и попрощаться с ним. Во втором антракте почитательница из Нью-Йорка Мэрилин Лавинь видела, как он медленно идет по коридору; с одной стороны его поддерживала Марика, с другой – Луиджи. «Я подбежала к нему; он взял меня за руки и нагнулся, чтобы слышать, что я говорю. Руки у него были теплыми, но лицо синеватое. Он был необычайно слаб, но его глаза жили и горели. Я как будто видела его сущность, которая выглядывает из гибнущей плоти. Я смотрела смерти в лицо, но в его глазах жил мощный дикий дух. Можно было видеть это отделение души от тела».
Когда настало время для последнего поклона, Канеси спросил Рудольфа, уверен ли он, что ему нужно выйти на сцену. «Да, я должен. Но давайте побыстрее». Как когда-то заметил Женя Поляков, с Рудольфом невозможно было признаться в слабости: «Хромой или забинтованный с ног до головы, он шел на сцену. Душа опережала тело». И вот, поддерживаемый с обеих сторон, умирающий Нуреев с трудом вышел из-за кулис. Его шаль и накидка напомнили Марио Буа «умирающего Мольера». Не веря своим глазам, зрители несколько секунд молчали, прежде чем зал взорвался овацией. «Мы посетили трагическое чудо, – пишет Буа. – На той же сцене, где тридцать один год назад никому не известный молодой человек вылетел в вариации из «Баядерки», тем вечером великий Нуреев показывал нам свою «Баядерку» вместо прощания». После того как опустился занавес, когда Жак Ланг повесил ему на шею знак ордена Почетного легиона, дававший звание Командора, казалось, что сухие глаза только у самого Рудольфа. Несколько очевидцев, среди них Луиджи, заметили, что он отреагировал на этот жест явным презрением. «Все враги Рудольфа – все те, кто выталкивали его, – теперь толпились вокруг него с лаврами». Сильви Гийем ощущала то же самое. «По-моему, он в каком-то смысле торжествовал победу. У него в глазах застыло такое выражение: «Наконец-то я вас завоевал. Пусть я умираю, но я вас завоевал». Но в тот вечер Рудольф не испытывал тяжелого чувства. Когда Мишель Канеси спросил его: «Вы счастливы?» – он ответил: «Да. Очень, очень счастлив». Слишком усталый, Рудольф лишь ненадолго появился на ужине после премьеры. Потом он попросил Мишеля и Луиджи отвезти его домой. Когда они помогали ему выйти, поддерживая его под локти, чтобы он не упал на подгибающиеся колени, их остановил Берже, который договорился, чтобы Рудольфа сфотографировали для Paris Match. «Нет!» – возмутилась Марика, которая догадывалась о последствиях, но Рудольф не видел причин для отказа: мысленно он был по-прежнему байроновским Корсаром, чья душа, «горя, раскрывалась».
Его «Баядерка» стала личным триумфом – апофеозом тридцатилетней миссии, чьей целью было познакомить западных зрителей с не известной им классикой Петипа. Блестяще темпорированная, она противопоставляет миманс немого кино и восторженные любовные дуэты – стереотипным дивертисментам, состоящим из классических элементов, перемежающихся характерным танцем, что вместе создавало волнующий эффект бродвейского мюзикла. Если в начале первого акта мало действия, это более чем компенсирует сцена вторая, куда Рудольф ввел новые вариации для друзей Солора – что предвещало для него хореографическое начало, без единого исступленного рон-де-жамб в поле зрения – и заканчивалось смертельным столкновением двух героинь. Во втором акте – всплеск прекрасного балета, когда Гамзатти, сменив сари и восточные туфли на пуанты и пачку, входит в образ виртуозной дивы. На ее техничные шаги, сольные и в тандеме с Солором, так же интересно смотреть, как на этнические танцы кордебалета. А в третьем акте зрители смотрят на минималистический шедевр танца Теней – «суть, сердцебиение балета»; его академическая строгость выливается в кульминацию, дарящую ощущение несказанной мощи и красоты.