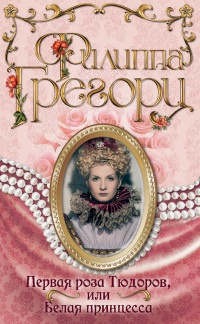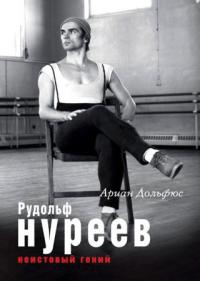Книга Рудольф Нуреев. Жизнь - Джули Кавана
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поединок двух соперниц за любовь Солора проходит всецело в жанре мелодрамы («Это дуэт», – говорит Патрис Барт, сравнивая балерин с меццо и сопрано в опере Верди), и именно эту сцену Рудольф считал настолько важной, что хотел заняться ею в первую очередь, пока у него еще есть силы. Помогая ставить балет, и Барт, и Пат Руан ожидали, что Рудольф захочет добавить хореографию в первых актах, но оказалось, что он «оставляет все как есть». Руан объясняет: «По-моему, ему казалось, что простота хореографии достаточно красноречива и подготавливает переворот в виде танца Теней… Но я не сомневаюсь, что свою роль сыграло и его ухудшающееся здоровье. Многие танцы, которые он собирался переработать, пришлось оставить в оригинальном виде, так как к тому времени он уже был слишком болен. Зато он многое изменил для некоторых людей, и потому они поддавались контролю, и произвести перемены можно было сравнительно быстро… По-моему, непредсказуемость его силы была главным элементом. Невозможно полностью перестроить большой вальс за одну репетицию, когда ты не уверен, что ты придумаешь на следующий день».
Поручив Эцио Фриджерио и его жене, Франке Скьярчьяпино, создать то, что он называл «Тысячей и одной ночью» Востока, Рудольф надеялся, что дизайнер воссоздаст давно забытое окончание «Баядерки». Заброшенное в России после 1919 г., четвертое действие балета, сцена свадьбы, не только представляло логическое завершение сюжета, но было также потрясающе сенсационным. Возмущенные свадьбой Солора и Гамзетти, боги мстят, обрушивая здание храма; под обломками погибают все, кроме героя. Макарова в своей постановке восстановила последнее действие с разрушением храма, но воспользовалась музыкой, которая представляла собой больше стилизацию Джона Ланчбери, чем оригинальную партитуру Минкуса.
Зато в распоряжении Рудольфа имелись страницы оригинальной партитуры, скопированные и переписанные в России. Кургапкина вспоминает, как он спрашивал Фриджерио, сколько будет стоить поставить искусственное землетрясение. «Миллион долларов», – ответил дизайнер. «Тогда обойдись без него», – возразил Рудольф, изобразив разочарование, но, по мнению Пат Руан, скрыв облегчение. «Больше не было указаний пользоваться оригиналом, и, по-моему, он понял, что у него просто не хватит сил начать совершенно новый акт с нуля». На самом деле Кургапкиной пришлось вместо Рудольфа сражаться за дизайн. Сценографический отдел отказался делать слона; Фриджерио собирался обойтись без знаменитой наклонной плоскости для танца Теней. «Он ведь даже никогда не видел «Баядерку»!» – воскликнула она во время панического звонка Рудольфу; и оба беспокоились, что для танцоров оставлено слишком мало места. «Рудольфу не нравились декорации Фриджерио», – утверждает Шарль Жюд. «Это дерьмо», – сказал он. Но у него не было сил бороться».
Так как репетиции близились к концу из-за августовского отпуска, Рудольф договорился с Уоллесом поехать на Ли-Галли; Уоллес прилетел в Париж из Лос-Анджелеса с двумя своими собаками. Рудольф съездил в больницу сделать кардиограмму и вечером накануне их отъезда позвонил Мишель Канеси и сообщил, что вернулась цитомегаловирусная инфекция и им нужно отменить поездку. «Но Рудольф хотел поехать на остров, даже если это означало бы, что он умрет, – сказал Уоллес. – По-моему, ему казалось, что именно это и произойдет». В тот же вечер Нил Бойд сообщил, что уходит, потому что ему предложили работу в Австралии, и Уоллес оказался единственным рядом со смертельно больным человеком, что оказалось еще страшнее, чем он боялся.
«Приехав, мы увидели, что работа над домом брошена на полпути, потому что Рудольф не заплатил подрядчикам. Со стен свисала проводка, повсюду валялись трубы. Плесени было столько, что можно было видеть, как с потолка падает краска. Топлива хватало только на то, чтобы генератор работал полдня; в водопроводе были амебы, а температура была 43 градуса по Цельсию при влажности 100 процентов. Настоящий кошмар. За то время я потерял 5 килограммов, и мне казалось, что я там тоже умру».
Их ежедневный распорядок оставался почти неизменным. Рудольф вставал, чтобы съесть то, что готовил Уоллес, а потом возвращался в постель. После ужина они сидели и смотрели телевизор, так как ни у одного из них не было сил для разговоров. «Но хотя бы там были собаки, и ему нравилось с ними играть. Только они его и смешили». От отчаяния Уоллес начал обзванивать знакомых из телефонной книги Рудольфа – тех, кого можно было пригласить поужинать. К тому времени доставили новое судно, моторный катер, который Рудольф решил назвать «Марго», и вместе со сменным помощником, найденным Мод (Барри Джул, работавший «своего рода мальчиком на побегушках» в конце жизни Фрэнсиса Бэкона), они отправлялись на различные экскурсии. Рудольфа очень подбодрила поездка к Гору Видалу, когда он позволил «своему телу, изъеденному СПИДом, рухнуть рядом с бассейном [Видала]»; он пил белое вино и занимал хозяина массой интересных сплетен. В другой день они стали на якорь у ворот Дзеффирелли и кричали, пока не вышел слуга. «Он скрылся и вскоре вернулся с приглашением на обед». Дзеффирелли, давно простивший Рудольфа, пришел в ужас и расстроился оттого, в каком состоянии был его друг; он сказал Уоллесу, что Рудольф не протянет до Рождества. С другой стороны, на фотографии, сделанной в тот день Джулсом, Рудольф выглядит вполне довольным. В кричащих шортах и свободной футболке Миссони он принимает солнечную ванну в шезлонге, почесывая ухо терьеру Дзеффирелли; он позирует с режиссером, и оба одеты в одинаковые белые с голубым джеллабы. Один тогдашний снимок, на котором мрачный Рудольф обмотал голову полотенцем на манер тюрбана, Джулс подарил Фрэнсису Бэкону, который был так тронут этим образом, что «прикрепил его к стене своей захламленной студии»[206].
Через десять дней Уоллес улетел домой, думая, что отдохнет неделю, оставит собак в Лос-Анджелесе, а сам, если нужно, вернется. Однако к этому времени из Ленинграда ему на смену приехали Люба с мужем. Отказываясь считать себя инвалидом, Рудольф не говорил о своем здоровье, прервав их встревоженные расспросы словами: «Неужели вам больше не о чем поговорить?»
Вечером, когда все ужинали у Дзеффирелли и пытались найти свой катер, Рудольф пил из горлышка и, раскачиваясь, шел по причалу. «Все равно что идти с русским бродягой, – замечает Люба. – Он пил, чтобы заглушить неприятности».
Когда они добрались до Ли-Галли, залив был погружен в темноту, море штормило, дул сильный ветер, и все же Рудольф, и слабый, и пьяный, отказался подать руку мужу Любы, который хотел помочь ему высадиться на берег. Спрыгнув с палубы, он потерял равновесие и упал бы на скалы, если бы муж Любы «не подхватил его и не поддержал».
Любе казалось, что он с каждым днем нарочно делается все безрассуднее. «Мы вместе гуляли по тропе, когда он вдруг сказал: «Немедленная смерть». «Рудольф, это не так просто, – возразила я. – Такую смерть надо заслужить». Через день или два он достал гидроцикл и пригласил ее прокатиться. «Он с бешеной скоростью помчался на скалы, и я подумала: «Боже мой, он хочет «немедленной смерти» и заберет с собой меня!» Рудольф остановился вовремя, и все же Люба убеждена, что он думал о самоубийстве. «Он хотел умереть, он хотел утонуть, хотел, чтобы катер пошел ко дну».