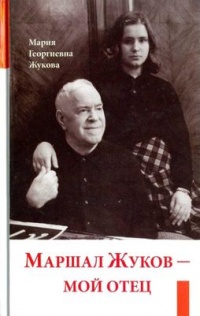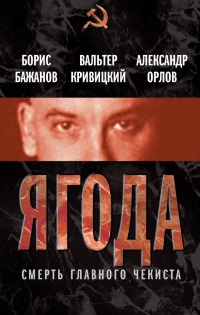Книга Короткие встречи с великими - Юрий Федосюк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
О ужас! У меня не столь огромная голова (59,5), но фуражка гения не налезала на неё никак, словно принадлежала ребёнку. Я напяливал её то на макушку, то на темя, то вперёд; фуражка даже держаться не хотела, прямо сваливалась с головы. Что и говорить, не по Сеньке оказалась шапка! Но в душу мне циничным холодком проникло недоумение и разочарование: ничего себе гениальная голова носила эту фуражку!
Разумеется, я и тогда не соотносил впрямую величину головы с умом её обладателя, но всё же, всё же… Вспоминалась огромная, не по росту, голова Ленина.
Так задолго до XX съезда культ Сталина поколебался в моём сознании.
А.А. Сурков
Вот поэт, имя которого начинает забываться, да никогда и не стоял он в первой шеренге советских поэтов[31]. Долгое время Сурков занимал ответственный пост секретаря Союза писателей, был правой рукой Фадеева, кандидатом в ЦК КПСС, то есть одним из высокопоставленных литературных администраторов, вследствие чего в: писательской среде о нём можно было услышать немало злых отзывов. Известны и остроты в его адрес: «На Суркова брови мы насупим, если он захочет нас сломать» (перефразировка строк песни Лебедева-Кумача «Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать»). Или ехидное двусловие «сурковая масса» (из «сырковая масса»).
А у меня Сурков, частый гость ВОКСа, всегда вызвал безотчётную симпатию, он подкупал меня простосердечностью, какой-то неофициальностью, открытостью в эпоху, когда даже близкие люди становились замкнутыми, неразговорчивыми. Сурков же был неутомимый говорун: о чём бы он ни говорил, слушать его было всегда интересно, увлекательно. Поэт вкусно, по-ярославски окал, речь его отличалась яркой самобытностью и оригинальностью оценок и суждений. Во многом он казался гораздо проницательней и умней, чем требовала его незавидная и рискованная должность.
Ещё в 1943 году, в армии, мы с упоением пели сурковскую «Землянку» – «Бьётся в тесной печурке огонь». На какое-то время репертуарный комитет запретил исполнение этой песни из-за якобы пессимистических стихов «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага». Я слышал после войны, как Сурков задним числом с большим темпераментом возмущался этим запретом. «Каким же надо быть идиотом, – мелодично окал он, – чтобы опровергать, что бойцу на передовой до смерти всего четыре шага, иной раз даже не четыре, а три, а то и два. Вот только реперткомовские чинуши такой близости к смерти, к сожалению, не испытывали».
Сурков нередко заходил к моей начальнице Кисловой, часто вызывавшей и меня. Тут её нудные назидания прекращались, и мы с ней с наслаждением слушали образные рассказы и рассуждения Суркова, из которых я, увы, мало что запомнил. Он был смел на слово и отнюдь не всегда верноподданнически повторял официальные мнения. Когда в 1948 году вышло печально знаменитое постановление «Об опере “Великая дружба”, Сурков, вечный оптимист, так успокаивал Кислову, встревоженную тем, что её могли обвинить в поддержке многих композиторов-«формалистов»: «Да это всё ничего, увидите – обойдётся, ну всыпали им по маленькой, но больше ничего не сделают. Зря только на Арамчика (то есть Хачатуряна) накинулись. Арамчик – наш человек, никакой он не формалист, очень я люблю Арамчика. Да вы не огорчайтесь, всё обойдётся» и т. п. И в самом деле – обошлось.
Как-то раз на банкете, устроенном Австрийским посольством, слово взял Сурков, и официальная, натянутая обстановка мигом испарилась. «Я, конечно, понимаю, что нахожусь на дипломатическом приёме, но ведь главная задача дипломатии, как я полагаю, состоит в содействии человеческому сближению представителей разных стран. Поэтому к чёрту всякий протокол! Давайте обойдёмся сегодня без протокола, который я всей душою ненавижу», – и Сурков стал говорить что-то простое, неказённое. Я посмотрел на посла Бишоффа, старого дипломата австро-венгерской школы. Он захохотал вместе со всеми и сквозь слёзы повторял на плохом русском языке: «Да, будем без протокола».
Однажды руководство Союза писателей принимало группу западногерманских писателей. Беседу вел Сурков, сумевший сразу же создать простую, естественную обстановку. Среди немецких литераторов был некий Отто Хан, владевший русским языком и, как я понял, участвовавший в «русской кампании». Хан говорил о переломе в сознании немцев после понесённого ими поражения, а Сурков прервал его прямодушным замечанием: «Да, но так ли вы думали летом 1941 года, когда мы бежали от вас с быстротой, прямо надо сказать, просто-таки необыкновенной?» Эти слова «просто-таки необыкновенной», произнесенные с подчёркнутым «о» и с интонацией удивления, показались мне тогда и смело-крамольными, и вместе с тем очень сочными и правдивыми.
Зато в большинстве стихов Суркова яркие краски отсутствуют. В 1951 году он получил Сталинскую премию за сборник «Миру – мир!» или что-то в этом роде, то были рифмованные передовицы. Вскоре после этого меня командировали зачем-то в Ленинград, я взял с собой почитать этот сборник. В двухместном купе «Стрелы» со мной оказался поэт Степан Щипачёв, я простодушно высказал ему впечатление от сборника: «Как можно так писать?» Помню реакцию осторожного Щипачёва: он не сказал ни слова, а мрачно махнул рукой. Кстати, тогда же я признался Щипачёву, в то время популярнейшему поэту-лирику, что мне очень не нравятся его строки «Ты порой целуешь ту и эту в папиросном голубом дыму», я бы их как-то заменил. Поэт нахмурился: «Что же тут лишнего: обстановка накуренной комнаты подчёркивает нравственное падение героя». Не понял меня, а мне и ныне эти стихи представляются верхом безвкусицы.
Что бы ни произошло, Сурков тут же бежал поведать людям о происшедшем, с собственными комментариями. В изданных в 1960-х годах дневниках драматурга Афиногенова содержится подробная запись того, что рассказал Сурков семье Афиногеновых, когда приехал с передовой в июле 1941 года, – яркий, язвительный рассказ о катастрофическом развале нашего фронта. Можно подивиться смелости тогдашних сурковских рассуждений и степени его доверия к собеседникам. И всё ему сходило с рук.
Наверное, редкое прямодушие и доверие к людям способствовали тому, что К. Симонов, несмотря на разницу в возрасте (16 лет), с дружеской симпатией относился к Суркову. Именно ему посвятил Симонов одно из лучших своих стихотворений «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины».
Вероятно, это стихотворение, как и лучшие стихи самого Суркова («Землянка», «Конармейская», «Видно, выписал писарь мне дальний билет»), будут способствовать тому, что имя этого весёлого и отважного человека не совсем исчезнет из памяти будущих поколений.
А.Т. Твардовский