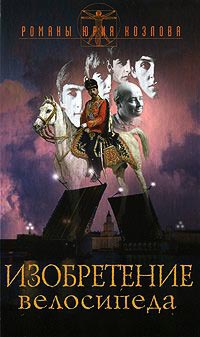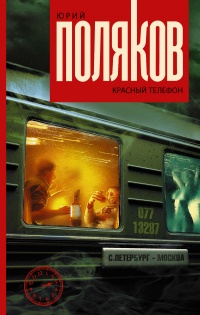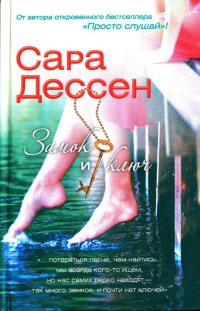Книга Враждебный портной - Юрий Козлов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Где ты питаешься, Яша?» — полюбопытствовал Зиновий Карлович.
«Еще говорят, что, если бы я не был евреем, они бы меня давно выгнали, — выстрелил в ладонь абрикосовой косточкой Посвинтер. — А питаюсь я в столовой на площади. Еще в чайхане на верблюжьем базаре. Там плов».
«Прервемся минут на десять, — положил карты на стол Порфирий Диевич. — Пойдем, Яша». — Увел Посвинтера в кабинет.
«Мы играем обычно четыре часа, — произнес Зиновий Карлович, — три или четыре здоровых мужика... И всегда, — кивнул на столик с провизией, — что-то на тарелках остается. Сейчас, — посмотрел на часы, — прошло полтора часа, мы еще ни к чему не притрагивались. Как же он это все так быстро съел? Это... больше, чем четыре утки».
«Бухарцы заморили голодом», — предположил ироничный, всегда чисто выбритый, в свежей рубашке, брюках со стрелками и начищенных летних штиблетах энергетик Лалов. Постоянная близость к воде как будто освежала его внешний вид. Дима заметил, что даже после горячего зеленого чая Лалов, в отличие от остальных, никогда не потел.
«А может, лекарство улучшает аппетит?» — предположил Пал Семеныч.
«Этот парень не производит впечатления больного», — пожал плечами Зиновий Карлович.
«Скорее выздоравливающего. Я бы сказал, дико выздоравливающего», — уточнил энергетик Лалов.
4
Днем, когда Порфирий Диевич был на работе, а Патыля возилась на кухне или ходила с тряпкой по комнатам, Дима подолгу смотрел из окна на другую сторону улицы, где жили бухарцы.
Трех сестер звали Рахиль, Роза и Софа. Старшая — Рахиль — была почти что взрослая — носила очки и любила сидеть с толстой книгой на скамейке у дома, под огромным одичавшим урюком, в ветвях которого шумно скандалили птицы. Роза была моложе Рахили, но года на три старше Димы. Она все время что-то ела, даже на скамейке сидела с тарелкой. А если шла по улице, путь ее было легко отследить по скатанным в цветные шарики конфетным оберткам. Роза была толстая и добрая, часто угощала Диму конфетами и семечками, а один раз даже вынесла ему на газете кусок фаршированной щуки. Но Диму куда больше интересовала Софа, которая ни разу ничем его не угостила. Софа, как и он, перешла в пятый класс, училась, как сообщила Диме Роза, на одни пятерки, а еще играла на пианино. Софа ходила в белом платьице, в белых носочках и с белым бантом в черных, мелко вьющихся волосах. У нее было смуглое личико с маленьким, как у мышки, носиком и капризными, часто надувающимися губками. Софа любила прыгать через скакалку, была настоящим виртуозом этого дела, прыгала разными способами. Дима и подумать не мог, что их так много. Когда она прыгала, скрестив руки, белое платьице взлетало вверх, открывая точеные и ровные, как у куклы, темные ножки и белые трусики. Время как будто останавливалось, точнее, исчезало. Дима был готов вечно смотреть, как взлетает вверх парашютиком Софино платье, отскакивают от земли красные сандалии, мелькают белые трусики... Облачные, как у того ушибленного о жестяную лампу жука-носорога, крылья вспенивались у Димы за спиной, и он летел к звездам, хотя на улице еще был вечер и солнце только собиралось утонуть в море.
Порфирий Диевич давно вернулся за стол и мрачно объявил, что будет играть мизер.
Посвинтер как-то странно — в два гигантских летучих шага — выскочил на улицу, выхватив из вазы последний абрикос. Ночной ветер поперхнулся было АСД, но быстро разогнал напоминающий о бренности бытия и саване смердящем запах по возмущенно зашелестевшим листьями деревьям.
Дима вдруг подумал, что, быть может, это на него, замершего у окна, и на прыгающую через скакалку Софу смотрит каждый вечер Бог, когда на Мамедкули опускается тишина, а солнце опускается в море и светит оттуда зеленой лампой.
А потом он почему-то вспомнил про сарай, где в одной половине жили куры с петухом и голуби, а в другой хранились старые вещи.
Там стояли огромные, с раструбами кожаные охотничьи сапоги Порфирия Диевича. Дима не мог представить себе зверя, на которого можно было бы охотиться в таких сапогах. От долгого неиспользования сапоги окостенели, так что надеть их было проблематично. К тому же внутри одного сапога определенно слышалось какое-то шуршание. Патыля предупредила Диму, чтобы он всегда проверял обувь, прежде чем надеть, потому что туда любят забираться скорпионы. Если скорпионы могли забраться в крохотные ботинки Димы, кто же тогда шуршал внутри стоящих как колонны сапог? Дима не сомневался, что это тарантулы, или, как их называла Патыля, каракуты. Однажды она показала Диме этого самого тарантула-каракута. Черный, с мохнатыми ногами и жирным шевелящимся задом, он сидел на дувале, видимо, высматривая, кого бы смертельно ужалить. Патыля бросила в него комок глины, и паук мгновенно переместился на другую — недоступную сторону дувала. Патыля сказала, чтобы Дима не ходил в курятник, потому что пауки часто заползают туда и едят яйца.
Но Дима все равно ходил. Его, как маленький гвоздик магнит, притягивали к себе старые вещи. Тревожно миновав опасные сапоги, он усаживался на пыльный скрипучий стул и подолгу смотрел на черный, странной конструкции велосипед с невозвратно спущенными шинами, на облепленный пометом радиоприемник с неожиданно живым и чистым стеклянным глазком над шкалой с нерусскими названиями городов, на серую, колом (видимо, взяла пример с сапог) висящую на вешалке драную кожаную тужурку с широкими, как плавники, лацканами и деформированными накладными карманами, определенно хранящими память о некогда находившемся там маузере; Диме очень хотелось проверить их содержимое, но карманы были идеальным жилищем если не для тарантулов, то для скорпионов точно. Поселиться в карманах им было еще проще, чем в сапогах.
Он узнал у Порфирия Диевича, что это дамский велосипед и на нем когда-то ездила его бабушка. Дед рассказал Диме, что в тридцать девятом году торговля с Германией сильно оживилась и даже в Мамедкули — через Иран — стали попадать немецкие товары. Сапоги, как выяснилось, были привезены из Австрии вместе с другими военными трофеями, а кожаная куртка с выдранным на заду клоком принадлежала прадеду Димы — Дию Фадеевичу.
В один из летних приездов Дима вытащил велосипед из сарая, отмыл из шланга, он заблестел, как новенький. Но не все оказалось просто с этим велосипедом. Приглядевшись, Дима с изумлением обнаружил, что протектором на спущенных шинах, которые он безуспешно пытался надуть автомобильным насосом, служила... выпуклая свастика. Собственно, поэтому велосипед так хорошо и сохранился. Его лебединая песня навеки оборвалась 22 июня 1941 года. Впечатывать в пыль или в прибрежный песок свастику даже в Мамедкули, где как-никак функционировала советская власть, было опасно, если не сказать, самоубийственно. Все равно что вставить ногу в кожаный сапог с тарантулами. Заменить же фашистские шины на правильные советские (их, правда, не изготавливали с протектором в виде серпа и молота) возможным не представлялось, поскольку колеса велосипеда были нестандартного размера, — Гитлер все предусмотрел.
Оставив в покое велосипед, Дима занялся приемником фирмы «Telefunken». Он был одет в неподвластный времени — эбонитовый? — корпус, легко переживший когтистое пребывание на нем многих поколений петухов. Почему-то они предпочитали отдыхать не как положено — с курами на насесте, — а на приемнике. Ни единой царапины не обнаружил Дима на (эбонитовой?) цвета спелой вишни поверхности, когда соскоблил с нее многолетний слой помета. Последнего петуха Диме пришлось сгонять палкой. Петух, похоже, относился к приемнику как к любимой курице, а потому всячески мешал Диме к нему приблизиться.