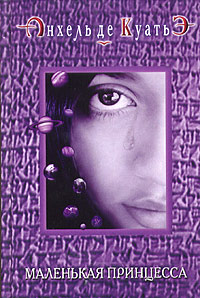Книга Река без берегов. Часть 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга 2 - Ханс Хенни Янн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После того как мы исчезли из их поля зрения, Конрад повеселел, почувствовал себя свободнее. Ведь теперь не было необходимости скрывать от меня эту тайну; что его бабушка и дедушка такие бедные. Мое сострадание к нему в последние несколько часов неуклонно возрастало. Превратив — для меня — его красоту в нечто лучезарное. Мне хотелось обнять и расцеловать Конрада. Но я просто сидел в коляске, с ним рядом, как его сопровождающий; и меня согревала радость, суть которой я не сумел бы выразить. Перед нами простирался длинный золотистый возвратный путь. Мы ехали со стороны, озаренной солнцем, в сторону сумерек. Мое тревожное счастье росло вместе с нарастающей темнотой. Мы катились по кромке мира. Катились, катились, влекомые старой кобылой. Подпрыгивающие колеса пением отдавались в наших бедрах. Свинцовые дома города смотрели на нас. Наконец мы выбрались из коляски, чувствуя, что все мышцы затекли. Мы распрягли лошадь. Этот день подошел к концу. Конрад направился в свою комнату. Я — в свою.
* * *
Тутайн сказал:
— Бывают такие семьи, которые всего за несколько поколений размножаются до необозримых пределов, и другие: которые удаляются от мирской суеты, не участвуя в этом яростном буйстве размножения. Первое вовсе не есть доказательство силы, а второе — слабости. Немногочисленные — это всегда лучшие. Они — братья и сестры Духа. Но многочисленные тоже гибнут, как и немногочисленные. Не существует ничем не ограниченного размножения. Деревья не дорастают до неба. Когда-нибудь земледельческой части человечества удастся с помощью оружия изничтожить животное царство и леса: чтобы распахать даже последние анклавы непаханой земли. Но тогда города придут в запустение и равнины превратятся в пустыню. Тогда погибнут как большие, так и малые семьи. Придет время, когда люди проклянут умножение потомства. Потому что именно в нем заключена причина нищеты и войн, черных голодных эпидемий и разрушительной науки, гибели души и наслаждений: триумфа числа. Однако какой прок от понимания того факта, что с умножением потомства связано нечто ужасное? Отдельный человек не может жить такой правдой. Даже царь-еретик Эхнатон не мог{68}. Ах, и вообще правда как любовь: она многолика… и на тех, кто сам ее не чувствует, производит отталкивающее впечатление.
Я сказал:
— Ты прав, это одна из правд. Но еретик Эхнатон сказал все же, и люди повторяли это за ним, они говорили так после многих размышлений, и с убедительными основаниями, и с каплями пота на лбу, свидетельствующими об их правдивости:
— Кто же он, этот «Ты»? — спросил Тутайн, будто сам не знал.
— Бог, — сказал я, — Солнце, Универсум, сила Природы; непостижимая гармония мира; пространство, которое больше нас; время, что протяженнее отпущенного нам времени; химический закон и ворохи самых разных физических свойств: Вовеки-Непознаваемое. История человечества слишком коротка, чтобы мы на ее примерах могли научиться чему-то существенному. Научаемся мы из истории только вот чему: новорождённых щенков и котят люди топят, города разрушают, храмы и пирамиды ровняют с землей; других же людей убивают или обращают в рабство, постепенно сжирающее их плоть. Повсюду свирепствуют эпидемии, матери удушают собственных младенцев. Нужда и Горе — усердные работники. Всё, что сегодня строится, навряд ли переживет хотя бы следующее столетие. Совершается именно такая работа. А все сомнительные отговорки — ненужная роскошь. Куда-то ведь они должны деваться, все эти лишние дети. Однако процессы зачатия и рождения изобрели не люди.
— Зато люди изобрели пушки, — сказал Тутайн, — и тем нарушили равновесие.
— Бедность и войны должны пожирать разрастающееся число, — сказал я. — Простое копье не менее жестоко, чем порох. Нам от этого никуда не деться. Природа расплачивается с нами изничтожением. Она желает изничтожения, ибо допустила рождение. Разве можно, чтобы каждая семейная пара производила на свет по десять детей?
— Хвала Господу, который учредил размножение и изничтожение; который позволяет плоду расти в материнской утробе и скашивает человеческую плоть! Восхваляйте рождение и смерть и смотрите на опустошенную землю: как она, опутанная колючей проволокой, шагает к бессильным небесам{70}… — торжественно заговорил он.
— Продолжать в таком духе бессмысленно, — сказал я. — Человек не несет ответственности за устройство мира. Он несет ответственность лишь за собственные мысли, но даже и это спорно. Он может излить свое семя на землю — вот единственное, что он способен предпринять против такого мироустройства.
Тутайн сказал:
— Борьба с числом! Замечательно, что мы с тобой настолько единодушны. Думать, напрягать мозг, чтобы устранить нищету и войны! Разве решение такой задачи не стоило бы затраченных усилий?
— Человек ее не решит, — возразил я. — У него нет таких возможностей. Закон требует другого. Путь Духу преграждают глупцы. Сотворенный мир изначально осквернен необходимостью пожирать, чтобы потом быть пожранным. Солнце сияет, конечно; но оно порождает голод. Удовольствия же, увы, не невинны. Как мало Мироздание ценит наши головы, видно уже из того, что, когда жизнь человека заканчивается, первым умирает именно его мозг.
— Нам нужна свобода чувствования и мышления, — сказал Тутайн, — то есть избавление от всяческой бюрократии.
— Принцип Мироздания и принцип государственного строительства одинаковы. В том и другом случае продумано все; забытым оказалось только бытие индивида, — подхватил я.
Мы с ним не пришли ни к какому заключению. Да и как могли бы наши мысли стать окончательными, если сами мы не имеем начала и конца, а представляем собой лишь неопределенные отрезки времени, ставшего плотью? —
Семейство пекаря Бонина не поддерживало родственных отношений с Рихардом Бонином, товарищем детских игр моей мамы, а теперь крупным коммерсантом, живущим на главной улице Небеля. Мама как-то зашла к нему в лавку. Я ее сопровождал. Это было большое заведение, с четырьмя окнами зеркального стекла, выходящими на улицу. Сбоку, через ворота, мы прошли во двор, с двух сторон обрамленный многоэтажными складами. Таль, подвешенный к выступающей из верхнего окна балке, спускал наполненные мешки на телегу какого-то крестьянина. Посреди двора высилась черная четырехугольная куча угля для морских судов. Все это мы сумели охватить взглядом, пока, исполненные любопытства, пересекали двор. В лавке навстречу нам вышел тучный краснощекий мужчина. И осведомился, чего желает моя мама. Она улыбнулась; но, как я понял, сама тоже не сразу его узнала. Мама сказала, кто она; и — что пришла лишь затем, чтобы пожать ему руку. «Черт побери, — воскликнул он, — значит, это ты! Да-да, я уже наслышан, что ты сейчас в нашем городе. Как хорошо, что ты меня навестила! Только здесь неподходящее место для встречи. Если у тебя нет других планов, поужинай сегодня с моей женой и со мною. Мы всегда ужинаем сразу после закрытия лавки. И сына приводи. У нас такого большого пока нет. Нашему малышу еще не исполнилось года. Да ты сама увидишь. Ты, правда, еще не знакома с моей женой. Но мы люди простые, можешь мне поверить. Церемониться у нас не заведено. Я ведь всего-то и хочу, что часок с тобой поболтать. В конце концов, мы столько лет не виделись! У тебя, кажется, все хорошо. Я рад. У меня тоже все хорошо. Говорю так не ради красного словца. Я кое-чего добился в жизни. Ведьма не смогла этому помешать. Я вечером расскажу тебе обо всем подробнее». «Я, между прочим, ненадолго заходила к твоей мачехе», — сказала мама. «Ты всегда была великодушной, — ответил он, — а вот у меня это качество отсутствует. Я намечаю для себя четкие линии поведения и потом действую в соответствии с ними». Разговор в лавке закончился очень быстро. Мама приняла приглашение. Она ни словом не выдала мне своих чувств. Сказала только: «Как удачно, что я сегодня надела шляпу с большими полями». Это был ее самый элегантный головной убор.