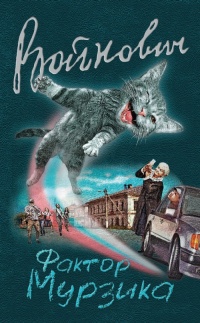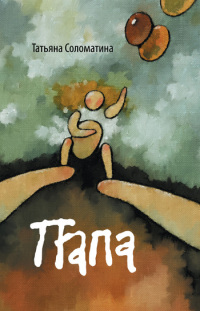Книга Париж в любви - Элоиза Джеймс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Вчера голос нашего священника, солировавшего во время мессы, вдруг дрогнул, и чуть позже он оборвал фразу о важности крещения и, сказав, что заболел, удалился. В Соединенных Штатах конгрегация немедленно начала бы переговариваться, но французы на редкость сдержанны. Все прихожане молча ждали, и через пять минут появился другой священник, который объявил, что все в порядке, и как ни в чем не бывало продолжил проповедь о крещении.
Сегодня на улице Консерватории идет сильный снег, и серые шиферные крыши стали молочно-белыми. Я приникла к окну моего кабинета, праздно размышляя о том, как страстно дети любят снег. И тут я осознала, что смотрю вниз, на группу парижанок, которые целуются на улице, несмотря на непогоду. Мы, выросшие на ферме, ходили в снегопад в пуховиках (предпочтительно ярко-оранжевого цвета, чтобы не стать мишенью подвыпившего охотника, который уничтожил не зверя, а упаковку из шести бутылок). На этих парижанках темные пальто с туго затянутыми поясами на тонких талиях. Они наклонялись друг к другу, клюнув в щеку, как воробышки, и их шарфы — алые, цвета лаванды или тусклого золота — вспыхивали сквозь падающие хлопья снега. С моего наблюдательного пункта они казались инопланетянами, столь же непохожими на меня, как стая павлинов — на индюшку.
Однажды — в тот год, когда у нас было еще меньше денег, чем обычно, — моя мать сняла в столовой шторы, на которых были изображены парусники пятнадцатого века, и сшила нам с сестрой платья. Возможно, политкорректный контингент еще двадцать лет не превратит Христофора Колумба из святого в дьявола, но я еще в детстве возненавидела конкистадоров за то, что вынуждена была носить «Нинью», «Пинту» и «Санта-Марию»[63] весь тот год, и в снег, и в солнце.
Парижанки на моей улице никогда не носили портьеры из столовой. Это сразу видно. В ту минуту, когда я это констатировала, в памяти возникли картинки моих несчастных школьных лет, как кошмарное телешоу семидесятых. Мой выпускной бал проходил в гимнастическом зале — правда, я не помню его так отчетливо, как платье, которое было тогда на мне. Как ни печально, так со мной бывает довольно часто. Чтобы его купить, я подрабатывала официанткой в кафе. Менеджер заставлял нас одеваться в белые блузки и широкие юбки, собранные в талии — мы выглядели, как члены семейства фон Трапп.[64] На заработанные деньги я купила платье для выпускного бала именно того оттенка розового, который совершенно не подходил к моим волосам. Мой кавалер принес мне букет из полуувядших роз, и их головки свисали с моей руки, как пьяная женщина, которую несут в постель.
Годами я пыталась объяснить Алессандро, что это такое — вырасти на ферме Среднего Запада, за чертой города, в котором 2242 жителя. Он никогда не мог этого понять. Алессандро вырос во Флоренции, в Италии, а его знакомство с Америкой в основном ограничивается Восточным побережьем. Кроме того, у него досадная манера противопоставлять свои истории моим. Если я описываю, как это ужасно: кружиться в гимнастическом зале в платье цвета лососины под сладкие звуки «Лестницы в небо», он немедленно начинает рассказ о семейной поездке в Швейцарию.
Поэтому несколько лет назад, получив приглашение на вечер встречи в мою школу, я решила, что это удобный случай познакомить мужа с моим прошлым. Прибыв в Мэдисон, мы узнали, что его население за эти двадцать пять лет сократилось более чем вдвое. На Главной улице стоял один пикап, и — честное слово, я не придумываю! — к нам катился клубок перекатиполя. Я взглянула на Алессандро, чтобы удостовериться, что он уловил символику, но он с надеждой посматривал на парикмахерский салон, ожидая, что из-за него выскочат ковбои — как в «спагетти»-вестернах, на которых он вырос.
Вечер встречи был устроен в клубе «Ветеранов иностранных войн», располагавшемся в подвальчике. Я говорила себе, что теперь все будет иначе: ведь ныне я профессор и автор бестселлеров. В общем, могу высоко держать голову. Но, увы: болезненное ощущение приниженности, угнетавшее меня в школе, вернулось, как только я увидела тех же людей, беседовавших друг с другом, как и двадцать пять лет назад. Хотя, конечно, темы изменились. «Она выстрелила из дробовика сквозь потолок, — прошептала одна из моих одноклассниц. — Надеялась застрелить своего неверного мужа (они занимались любовью прямо в ее постели), но попала в шерифа. Пуля угодила ему прямо в ногу». Я открыла рот, чтобы спросить, что делал шериф в чужой спальне, но она уже перешла к другой теме. «Ты же слышала о Линдсей-Рей, не так ли? — Я отрицательно покачала головой. — Она поселилась с семью или восьмью гомиками в Миннеаполисе, а потом забеременела. Прямо непорочное зачатие, да?» Пили водку, в которую было добавлено немного сока, и Алессандро очень развеселился. Время от времени он возвращался ко мне, чтобы доложить о своих беседах — как слегка подвыпивший Гаррисон Киллор.[65] «Ты не говорила с той женщиной, у которой уже шесть внуков? Поразительно!» Он недоверчиво покачал головой. Мы, казалось, еще недавно приучали детей пользоваться туалетом, поэтому Алессандро не представляет себе, что можно так рано обзавестись внуками.
После того, что показалось мне еще одним тяжким четырехлетним испытанием, программа вечера продолжилась. Мой одноклассник, который теперь был мэром Мэдисона, начал раздачу призов. Честно говоря, я не помню, за что мне дали приз. Так же, как и в случае с выпускным балом, деталь, связанная с предметами туалета, затмила главное событие. Когда я вышла вперед, мне вручили огромную пару «семейных» мужских трусов не первой свежести, к которой были прикреплены две дощечки; сверху свисала веревка. Мэр назвал это «норвежской дамской сумочкой». Я понесла этот трофей к нашему столику, из последних сил стараясь улыбаться.
И тут наконец, наконец, наконец-то я увидела на лице Алессандро выражение, которого давно ждала: неприкрытый ужас. «Тебе это дали, потому что ты пишешь романы?» — прошептал он. Я понятия не имела. Вообще-то я даже не помню, что было дальше. Может быть, все присутствовавшие в зале вернулись домой с норвежскими сумочками; может быть, комитет по организации вечера встречи всю ночь не спал, прикрепляя трусы своих дедушек к деревянным дощечкам. Раньше я интуитивно сознавала, что никогда не избавлюсь от комплексов — и винила в этом мою мать и платья из портьер в столовой. Но после норвежской дамской сумочки я склонна ее простить.
Она хотела, чтобы мы были леди, уехали из Мэдисона и воспитали своих детей там, где никто не слышал о норвежской дамской сумочке. Теперь у меня есть алый шарф и черные сапоги на высоком каблуке. Я живу по другую сторону океана от Миннесоты. Мне удалось пережить тот год, когда я носила портьеры из столовой — и рассказать об этом.
Женщины внизу, под окном моего кабинета, перестали чмокаться и разошлись по своим делам. А снег все падает, густой и неизбывный, как падает в Миннесоте, — и, как выяснилось, так же и в Париже.