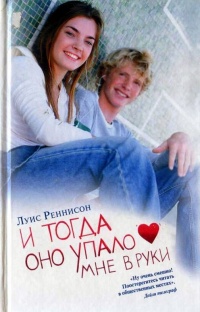Книга Грешные музы - Елена Арсеньева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако, перебравшись на Монпарнас, он забыл об осторожности. А может быть, как поступали со своей жизнью многие художники – что французские, что русские, – сознательно начал жечь свечу своей жизни с обеих сторон.
Скульптор Жак Липшиц вспоминал о посещении мастерской Модильяни в Фальгьер: «Когда я пришел к нему, он работал стоя, и несколько каменных голов – кажется, пять – стояли на цементном покрытии дворика перед ателье. Он как раз группировал их. Как сейчас вижу, склоняясь над ними, он объясняет мне, что они должны являть единое целое. Если не ошибаюсь, они были, насколько помню, спустя несколько месяцев выставлены в Осеннем салоне, где стояли, точно трубы какого-то органа, настроенного на музыку, звучавшую у него в душе».
А вот отзыв Раме, соседа по «Розовой вилле»: «Просыпаясь рано, Модильяни тесал во дворе камень. Головы на длинной шее выстраивались в шеренгу перед его ателье, одни лишь едва тронутые резцом, другие уже завершенные. К вечеру, закончив труд, он поливал свои скульптуры. С любовью, как поливают цветы, этот рачительный и дотошный скульптор-садовник ждал, пока стечет вся вода через дырочки лейки, и вода струилась по священным примитивам, рожденным под его резцом. Потом, присев на корточки у входа в свое ателье, он наблюдал, как они сверкают в последних отблесках заходящего солнца, и говорил спокойный, счастливый: «Они точно отлиты из золота!»
Анна годы спустя вспоминала тоже об этом увлечении Модильяни. «В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Скульптуру свою он называл la chose[12]– она была выставлена, кажется, у «Indеpendants»[13] в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи».
«Время больших пропаж» настанет для Анны в 30-е годы. Тогда вместе со многими дорогими ее сердцу вещами исчезнет главное ее достояние, главная память о той невероятной любви – рисунки Модильяни.
«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей царскосельской комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…» (Конечно, рисунков Анны и полотен, написанных с нее, на самом деле было куда больше. Они возникали потом в каких-то изданиях о Модильяни, в сборниках безвестных репродукций)… Был и такой случай: генуэзская славистка А. Докукина-Бобель опознала Анну Ахматову на рисунках («ню») из коллекции доктора Поля Александра, выставленных в Венеции в 1993 году, и сообщила об этом в парижской газете «Русская мысль».
Ох, как Анна будет потом горевать, что погибли эти рисунки, подаренные ей и сохранившие столько тонкостей, столько мелочей, столько деталей их отношений, их кратковременной любви, их взаимного распутства и служения их общему богу – творчеству. В этом служении Моди был верховным жрецом, беспощадным в своем фанатизме, а она, Анна, – приносимой Эросу и Аполлону жертвой.
Ну да, конечно, не все вечера Модильяни проводил со своей залетной подругой. Но ведь и у нее были в Париже какие-то друзья, с которыми она встречалась одна, без возлюбленного. Однако каждый миг его отсутствия Анна воспринимала как предательство. Вернее сказать, понимание неотвратимости разлуки делало ее болезненно-нервной, порою назойливой, наверное, докучной… Вот уж чего он терпеть не мог!
Ей было мало… она не хотела ни с кем его делить.
Забавно – вот таким же обделенным чувствовал себя, конечно, Гумилев, когда Анна «все ежилась», не желая отдавать себя всю. Какою мерою мерите…
Она уверяла в своих позднейших записках, что «очевидной подруги жизни у Модильяни не было», однако ей так и виделась эта воображаемая, несуществующая подруга, наделенная совершенно пошлым нравом. Тогда стихи с упреками в измене получались такими:
Иногда Модильяни от нее просто-таки скрывался. И Анна, забыв гордость (а вообще-то прав тот, кто утверждает, что никакой гордости в любви быть не может!), бежала к нему в мастерскую, стерегла под окнами, мучилась, ревновала, приносила ему цветы, как влюбленная девочка, и эти трогательные движения ее души на краткий миг возвращали ей его уже отравленную угаром жизни любовь.
«Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть – они так красиво лежали…» Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами…»
Все на свете имеет конец – пришло время Анне уезжать. О, конечно, они расставались не навсегда – лишь до следующего раза, до следующего года, до когда-нибудь… Но, видимо, пронзило влюбленное сердце вещим предчувствием.
Первая встреча, последняя встреча… Потом – «Песня последней встречи» – и этот постоянный озноб, который всегда охватывал Анну в минуты волнения и недобрых предчувствий:
Она уехала. Чтобы встретиться с мужем – и жить надеждами на будущие поездки в волшебный, вожделенный Париж.