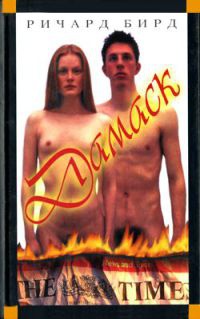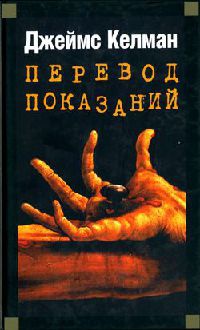Книга X20 - Ричард Бирд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Потом универсальное лекарство стали искать не в растении, а в действии, или в случайности, или в мысли. Вся наша ежедневная неудовлетворенность могла в мгновение ока развеяться как дым благодаря открытию панацеи — надежда, которую исправно подпитывали казино, реклама товаров и обещания эмиграции в какой-нибудь рай вроде Австралии. Панацея перемещалась от растений к лекарствам, великим мыслям, откормленным лошадям и удачным цифровым комбинациям миллионами путей, присущих переменчивым умонастроениям мрачных мужчин и женщин.
Но со времен Плиния надежда на панацею всегда была прибежищем чудесной любви хорошего мужчины к хорошей женщине. Это самая распространенная палочка-выручалочка, она гарантированно излечивает все.
Группка из четырех-пяти человек с дочерью Уолтера Эмми Гастон в центре. Она без грима. Темные волосы собраны в самый обычный хвостик, стянутый резинкой. Она наверняка на несколько лет моложе Тео, она поджидает в темноте со своими друзьями, за двойными дверями к лифту. Они держат два плаката, с виду уже не новых, на которых от руки черным фломастером написано: “ЗАМЕДЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО” и “НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ!!!”.
Пятеро пикетчиков во главе с Эмми зашли с нами в лифт, и в этой тесноте мы поднялись на четвертый этаж, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Лифт остановился, и мы один за другим вышли в коридор. Было так холодно и от нашего дыхания образовывалось столько пара, будто каждый затянулся в лифте целой пачкой сигарет. Перед № 47 уже ждали несколько человек, и, пока Тео отпирал дверь, Эмми спросила, обратившись не к кому-то конкретно, а ко всем сразу:
— Вы знаете, что этот человек дает сигареты детям? Вы хотите, чтобы ваши дети курили? Вы знаете, какова вероятность подхватить рак, если начать курить раньше четырнадцати лет?
— Эмми, — сказал Тео. — Зайдемте внутрь. Обсудим все там.
Она стояла совершенно неподвижно и смотрела на него. Ее ноздри сузились и выпустили длинную прямую струю пара.
— Кто вам сказал, что вы можете называть меня Эмми?
Казалось, спина ее распрямилась. Тео изобразил легкий извиняющийся поклон.
— Сожалею, — сказал он, но куда больше удивлялся своей ошибке, будто произносил про себя слово “Эмми” так часто, что оно незаметно для него стало ему привычно. — Пожалуйста, проходите, — сказал Тео, отчасти придя в себя. — Прошу всех внутрь.
Одна женщина из трущоб сказала:
— Я знала, что это случится.
1916 год.
Утро битвы на Сомме. За шесть часов погибло двадцать тысяч человек, причем все отнюдь не по случайности или невезению. По сравнению с курением, решает Уолтер, это настоящая глупость и заигрывание со смертью.
Офицерский адъютант арестовал Уолтера, рядового Черной стражи, за то, что Уолтер отошел слишком далеко от передовых окопов. Через два дня, в назидание всем солдатам, плохо ориентирующимся на местности, полевой суд приговорил Уолтера к расстрелу. На третий день он стоял у стены разрушенного дома перед взводом снабженцев Личных королевских шотландских пограничников и младшего лейтенанта королевских драгун. Солдаты продрогли, вымокли и устали, но офицер, если верить Уолтеру, был непреклонен, потому что солдаты не считались за людей.
Уолтеру не надели повязку на глаза, но связали руки сзади. Он прижимается спиной к стене, стена покрыта зеленоватой влагой, влага проникает сквозь мундир к напряженным плечам, которые, впрочем, и так мокры от пота. Снабженцы заряжают, проверяют и берут наизготовку ружья. Офицер, явно не новичок в таких делах, отдает приказ целиться, и ружья вскидываются, все до единого нацеленные в сердце Уолтера. Офицер неторопливо поднимает руку.
Дальше может произойти что угодно.
Примерно через месяц после того, как Тео внес поправки в свою докторскую диссертацию (“Обманная система вируса табачной мозаики”), его мать прослышала, что кто-то видел, как ее бывший муж и отец Тео работает на кухне базы истребителей КВС близ Ачнашина.
Больше всего мать Тео любила путешествовать на автобусах компании “Красная лента Западного побережья”. Они достаточно высокие, чтобы все видеть за изгородями, едут как раз с нужной скоростью и достаточно велики для циркуляции сигаретного дыма в отличие от тесных купе поездов “Железных дорог Западного нагорья”.
В тот раз из Глазго на север выехало всего шесть пассажиров. Задолго до Эрскин-бридж они начали многозначительно покашливать и раздраженно коситься в заднюю часть автобуса, где мать Тео с удобством устроилась на заднем сиденье, отпугивая возможных соседей тем, что смолила одну сигарету за другой.
К Ардлуи все пассажиры сгрудились на сиденьях сразу за водителем, а мать Тео наслаждалась шотландскими пейзажами, что пролетали за стеклами с эмблемой Британского института стандартов.
В двадцати минутах езды от Ачнашина автобус свернул за угол и чуть ли не лоб в лоб столкнулся с тягачом КВС, нагруженным хвостовой частью истребителя-бомбардировщика “Вулкан”. При столкновении обе машины заскользили по дороге. Прицеп тягача въехал в заднюю часть автобуса, сорвав правые задние крылья и раздавив в салоне кресла.
Мать Тео умерла мгновенно. Больше никто не пострадал.
Он пришел раньше, чем я ожидал, а затем мне показалось, будто я слышу их ругань, но это неправда, потому что они никогда не ругались.
Я спустился к чаепитию, все молчали, поэтому я брякнул, что бросаю университет и хочу получить деньги дяди Грегори. Коротко и ясно.
— Сейчас не время, — сказала мать.
— Дай мальчику договорить!
Я оторвал взгляд от тарелки, подумав, как же много я пропустил меньше чем за год. Люси однажды спросила, чем занимается мой отец, и я сказал, что по воскресеньям, между завтраком и “Древними древностями” по телику, он катается на машине. Затем я показал ей восклицательные знаки в одном мамином письме, и у нас от восхищения захватило дух, хотя мы оба не могли точно сказать, что именно в них не так. Люси спросила, что представляет собой моя мать, и я сказал — сама знаешь. Сама знаешь, как будто нечего сказать, кроме того, что уже известно. Мне понадобилось так мало времени, чтобы их забыть. Я не заслуживал этих денег.
Мама поджала губы и нахмурилась. Она была очень похожа на меня и сильно беспокоилась, а причиной ее беспокойства был я. Папе не мешало бы подстричься. Он усталый и какой-то расстроенный, будто явственно видел ту дурацкую жизнь, которую я себе наметил, где светлые куски чередовались с очаровательными катастрофами, и я занимался лишь тем, что спасал прекрасных женщин. Примерно так могла выглядеть жизнь кинорежиссера, но кинорежиссер хотя бы мог сделать из нее фильм.
— Хорошо, — сказал папа. — Завтра я это устрою.
Мама спросила, не сошел ли он с ума. Не поняв ее и немножко зардевшись от своего успеха, я заверил ее, что в университете ни разу не курил.
— Грег хочет потратить часть денег на поездку за границу, — сказал папа. — Он достаточно ясно выразился.