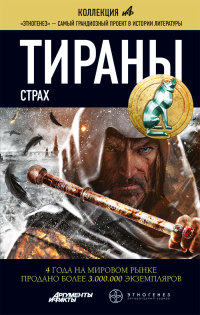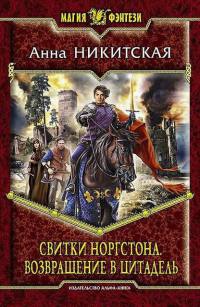Книга Тираны. Книга 1. Борджиа - Юлия Остапенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да, я, — повторил Перотто, мелко дрожа. В его расширившихся черных глазах бравада мешалась с ужасом, словно он сам не верил в то, что стоит перед отцом и сыном Борджиа и похваляется тем, что обрюхатил их дочь и сестру. — Мы полюбили друг друга. Она так страдала и… это просто произошло. Как только я узнал, тотчас сообщил его святейшеству.
— Он просит ее руки, — словно забавляясь, сказал Родриго. — Как только будет расторгнут ее брак.
— И что вы ответили? — тяжело роняя каждое слово, спросил Чезаре.
— О… ну что тут можно было ответить?
Да он издевается, что ли?! Глумится над несчастным дураком Перотто, над Чезаре, чувствующем, как поднимается в его груди волна неудержимой ярости, над Лукрецией, которую полчаса назад вывел отсюда доктор Гуччино? И зачем, зачем ему это? Зачем пауку глумиться над мухами?
— Так вы знали… уже… давно?
— Почти два месяца. Ты не сообщил мне ничего нового. Мы должны быть благодарны Перотто, — сказал Папа, кидая на растерявшегося юнца насмешливый взгляд, — за его в высшей степени примерную преданность нашей семье. Благодаря ему я узнал обо всем вовремя и смог принять меры, пока еще не стало поздно.
— Но я считал, вы узнали обо всем от меня…
— Ты и должен был так считать, — вздохнул Родриго. — И считал бы дальше, если бы этот дурак держал язык за зубами. Чем ты только думал, Перотто?
— В-ваше святейшество, — пролепетал тот. — Я… мне…
— В Тибре тебе ночевать сегодня, — хрипло сказал Чезаре.
Перотто выпучил на него глаза. Родриго стоял рядом, хладнокровно наблюдая за ними обоими. Перотто попятился, споткнулся, повернулся и торопливо пошел к выходу, почти побежал. А Чезаре пошел следом. Медленно. Очень медленно. Он спиной ощущал взгляд своего отца, и какая-то часть его знала, что паук продолжает дергать ниточки, которыми связаны его беспомощные жертвы. Что все происходит так, как должно, что все на своем месте и вовремя, здесь и сейчас, и он всегда делал и будет делать то, что ждет от него отец. Что так поступают Борджиа. Управляют, давая управлять собой.
Но что, если у мухи — сила быка?
— Перотто! — громкий, ясный, полный звенящей ярости крик разлетелся под сводами Ватикана, сотрясая стекла и фрески. Перотто, преодолевший уже половину расстояния до поворота, испуганно оглянулся. Бравада слетела с него, он понял, наконец, во что впутался. Но вырываться было поздно — сеть затянулась. Чезаре Борджиа, в развевающейся кардинальской сутане, размашистым строевым шагом подошел к Перотто, схватил его сзади за шею, рванул, разворачивая, и ударил в лицо. Ударил с той силой, с какой только мог; со всей, с какой мог.
Когда он отнял кулак, у Перотто больше не было лица. Вместо него образовалось кровавое месиво костей и плоти, развороченные скулы и челюсть съехали набок, а на лбу, в черепе, появилась огромная вмятина. Перотто выглядел так, словно ему пушечным ядром снесло полголовы. Чезаре подхватил его за ноги и потащил обратно к Малой зале, оставляя широкий маслянисто-кровавый след на мраморных плитках.
Родриго, неторопливо собиравший оставшиеся после заседания бумаги, резко обернулся, заслышав шаги. Лицо Папы закаменело, вытянулось, белея на глазах, лоб пошел пятнами. Но он молчал, когда Чезаре подволок обезображенный труп секретаря к его ногам и швырнул так, что веер кровавых брызг оросил белоснежный подол папской сутаны.
— В Тибр его бросите сами, — сказал Чезаре и, повернувшись, пошел прочь. Он слышал, как отец кричит ему вслед, слышал каждое слово, хотя Родриго не издал ни звука. Он шел, не видя света, шел, не чувствуя своего тела и своих рук. Черный морок запорошил ему взгляд. Потом морок отступил, и Чезаре понял, что что-то произошло с его лицом — кожу саднило, и нечто теплое текло по щеке на шею. Он размазал это теплое пальцами, посмотрел на них, но ничего не разобрал — его кулак был в крови Перотто. Бык раскалился добела и пульсировал у Чезаре на груди, словно долбил ему в грудь копытом.
Когда Чезаре вышел на воздух, ему стало легче. Он остановился у балюстрады, оперевшись ладонями о перила, и стоял, подставив закрытые глаза солнцу, не видя взглядов, которые проходящие мимо люди бросали на его окровавленное, покрытое свежими сочащимися ранами лицо.
1497 ГОД
Лукреция — теперь уже не Сфорца, герцогиня Пезаро, а снова Борджиа — сидела в окружении подушек, обезьянок и пажей, и разглядывала членов своей семьи. В последнее время они нечасто собирались все вместе, и тем более здесь, в «Винограднике Ваноццы», как называли они поместье своей матери, расположенное на склоне Эскулинского холма. Ужинали в саду, под открытым небом, расстелив ковры и атласные покрывала по выжженной августовским солнцем траве. День клонился к закату, колокола в соборе святого Петра переливисто звонили к вечерней службе, и звон этот едва долетал до холма сквозь душный, тяжелый от зноя воздух. Находиться в доме было невозможно, и Ваноцца распорядилась подать ужин в саду. Лукреция обрадовалась этому, ей всегда нравилось сидеть на земле. Отцу принесли кресло, в последнее время он жаловался на боли в костях, и теперь возвышался над членами своего семейства, как подобает главе клана — и Папе. У ног его, словно кошка, свернулась Джулия Фарнезе, его бессменная любовница и наложница. Лукреция не имела ничего против нее, поскольку эта Фарнезе знала свое место и не пыталась настраивать Родриго против его детей и их матери. Но ее неприятно коробило присутствие этой женщины здесь, на семейном обеде. Впрочем, остальные тоже явились с сопровождающими: Хофре был с женой Санчией, Чезаре привел двух или трех друзей, вокруг Хуана толклась целая свита, да и сама Лукреция, не желая скучать, взяла с собой свою новую любимую служанку и одного поэта, которого в последнее время привечала в своем доме, забавляясь взглядами, которые кидал на него время от времени Чезаре.
Ох, Чезаре.
Лукреция украдкой покосилась на брата, непринужденно смеявшегося какой-то неуклюжей шутке, которую только что отпустил их младший брат. В последнее время они нечасто оставались наедине, и еще реже говорили по душам. Имя Перотто никогда не звучало между ними, но Лукреция знала, что к исчезновению ее несчастного возлюбленного приложили руку отец и брат. Ей было жаль Перотто, и отчасти она винила себя, ведь без ее поощрения он никогда не решился бы зайти так далеко, тем более в монастырских стенах. Но она так тосковала в монастыре, а Перотто был хорош собой… кто мог подумать, что все так обернется? Правда, большой беды не случилось: нежданное дитя не помешало разводу своей неосмотрительной матери, а затем благополучно покинуло ее лоно точно в срок. Сейчас мальчик находился в деревне, на попечении слуг и хорошей кормилицы. Чезаре признал его своим сыном, и Папа официально издал буллу, подтверждавшую это, так что за будущее своего первенца Лукреция могла быть спокойна. Казалось, взяв на себя отцовство, Чезаре тем самым давал понять, что прощает Лукреции ее грех. Тем более что отмщение он свершил своими собственными руками…
Но Лукреции не давало покоя чувство, будто брат так и не простил ее до конца. Он стал сдержан с ней, в его прикосновениях больше не было той рвущей душу нежности, что согревала, вдохновляла, а порой почти пугала Лукрецию. Он словно бы… разочаровался в ней? Но нет, невозможно. Она по-прежнему хороша, даже лучше, чем когда-то. Материнство украсило ее, придало ее красоте пьянящий привкус зрелости. Прежде она была бутоном, а ныне — распустившейся розой. И, зная это, неотрывно смотрела на брата, на своего любимого брата Чезаре, который сидел совсем рядом и упорно делал вид, будто не замечает ее. Отчего они так отдалились?..