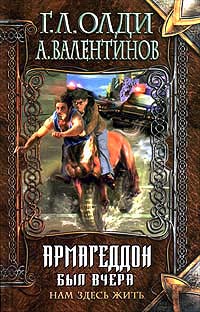Книга Небеса ликуют - Андрей Валентинов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Велья? Лучше бы ему не поминать такое. Этот мальчишка — не Фома Колоколец. На велье он сказал бы все, оговорил бы родного отца, братьев. Господа Бога вкупе с Мартином Лютером. Но мне не нужна его боль.
— Вы, кажется, поклонник Ноланца, сьер Гарсиласио? Ну так докажите это. «Когда, судьба, я вознесусь туда, где мне блаженство дверь свою откроет…». Помните?
Он не помнил. Точнее, просто не знал. Наверно, из всего Бруно сьер еретик изволил прочитать только «Тайну Пегаса».
— У него превосходные стихи. Пусть они вас слегка подбодрят. Это вам понадобится.
Я прикрыл глаза, вспоминая. Много лет назад, когда я впервые ступил на неровный булыжник Campo di Fiore , эти строки не выходили из головы. Я словно слышал холодный, чуть презрительный голос Великого Еретика, говорящего со мной сквозь вечность. Голос из Ада, из его черных ледяных глубин.
Когда, судьба, я вознесусь туда,
Где мне блаженство дверь свою откроет,
Где красота свои чертоги строит,
Где от скорбей избавлюсь навсегда?
Как дряблым членам избежать стыда?
Кто в изможденном теле жизнь утроит?
В боренье с плотью дух всегда сильней,
Когда слепцом не следует за ней!
И если цели у него высоки,
И к ним ведет его надежный шаг,
И ищет он единое из благ,
Которому дано целить пороки, —
Тогда свое он счастье заслужил,
Затем, что ведал, для чего он жил.
[13]
Он ведал, для чего жил, Бруно Ноланец, сатанист и гений, умевший смотреть сквозь хрустальную сферу Небес. Но этот мальчишка — не ему чета. Ноланца не смирили ни годы, ни пытки. Этому же хватит трех дней в компании с Будильниками. И он забудет о гордыне.
Как труп.
Как топор дровосека в умелых руках.
В моих руках.
Серый мокрый гравий под ногами, такое же серое небо над головой.
Вечер…
Ранний зимний вечер, обломки колонн, неровные, покрытые еле заметными капельками влаги, разбитый мраморный лик, бессмысленно пялящий пустые глаза…
Форум.
Сердце Великого Рима.
Я оглянулся, узнавая. Когда наставник, падре Масселино, в первый раз привел нас сюда, я почувствовал удивление — и обиду. И это Великий Рим? Город Цезаря и Цицерона, Столица Мира? Грязный пустырь, покрытый серыми обломками? Конечно, я знал, что с той поры прошла тысяча лет, но разве я мог тогда понять, что такое тысяча лет? Десять веков! Десять! А эти серые колонны все еще стоят.
Странно, разговор с этим мальчишкой стоил мне больше, чем думалось…
Падре Масселино, кажется, понял и принялся объяснять, каким был Форум раньше, за десять веков до того, как мои детские башмачки ступили на этот гравий. Золото, зеленоватый мрамор, ровный торжественный марш коринфских колонн, надменные бронзовые боги на постаментах. Они не знали меры в своей гордыне, эти язычники, думавшие, что их Рим действительно Вечный.
Много позже, глядя на руины дворца Сыновей Солнца на околице Тринидада, я все время вспоминал Форум. Инки тоже мнили себя владыками Вселенной. Прошел всего век, но высокая трава уже покрыла их города, и дерево омбу растет посреди тронного зала.
Тогда, в детстве, я честно пытался представить то, о чем рассказывал наставник. Эти потрескавшиеся ступени — святилище Сатурна, стена, грозящая рухнуть в любой миг, — храм Кастора и Поллукса, звездных Близнецов… Не получалось. Камни оставались камнями — пыльными, никому не нужными, замолчавшими навеки.
И все-таки что-то меня расстроило. Конечно, не сам сьер Гарсиласио. В конце концов, я спасаю не только его бессмертную душу, но и жизнь. Этого он еще не знает, да и ни к чему ему это знать.
Тогда что?
Я поддал ногой дно глиняного кувшина и вздрогнул от легкого стука. Я знаю ответ. Знаю — и боюсь себе признаться. Боюсь, потому что вспомнил…
Я никогда не знал своего отца. Он умер от ран на чужбине, когда я еще не родился. И я не любил его, бросившего мать ради никому не нужной славы и горсти серебра.
Я — Постум.
Посмертник.
Потом были наставники, учителя, приятели. Даже друзья были. Был Станислав Арцишевский, Бешеный Стась, единственный земляк на тысячи миль вокруг.
Были. Но отца уже не было.
Мне исполнилось пятнадцать, когда я впервые вдохнул влажный воздух Гуаиры. Мне было страшно — и одиноко. Илочечонк попал в Прохладный Лес. Лес, в котором люди были порою страшнее ягуаров.
Отец Мигель Пинто…
Я так и называл его — Отец, и не только потому, что он был коадъюктором, а я только-только принял третий обет.
Отец… Я-Та — как звали его гуарани.
Тот, кто стал отцом сироте Илочечонку.
Странно, ведь тогда ему еще не было и тридцати.
Я мотнул головой, прогоняя непрошеные воспоминания. Непрошеные, ненужные. Отец Мигель Пинто навеки остался со своими сыновьями среди Прохладного Леса. И только Илочечонк, его любимый сын, поспешил уехать от еще свежей могилы.
Земля на могиле была желтой — как тибрская вода.
И мне нет прощения!
Я оглянулся, словно кто-то, скрывающийся за серыми колоннами, мог подслушать, догадаться, — и тут же горько усмехнулся. Конечно, нет! На грязном пустыре, бывшем когда-то сердцем Вселенной, никого нет. Да и кому нужен одинокий чудак в модном амстердамском плаще и нелепой шляпе? Напрасно я забрел сюда!
Напрасно!
И совсем напрасно вспоминаю то, что мне велено забыть.
Илочечонк, сын ягуара, не виноват.
Ни в чем!
Отец Мигель Пинто, провинциал Гуаиры, принял смерть за дело Христово, выполнив свой долг до конца.
И я тоже выполняю свой долг.
А долг — это приказ. Приказ, которому я послушен.
Как труп.
Как топор дровосека.
— Топоры-ножи-ножницы-сечки! Точу-вострю-полирую! Я невольно оглянулся — здоровенный чернобородый детина в рваной куртке и такой же шляпе лихо крутил ножной привод, легкими движениями поднося к вертящемуся точилу огромный нож. Здесь, у входа в гостиницу, вечно крутится всякий люд: зеленщики и возчики поутру, разносчики и торговцы — ближе к полудню. Кажется, настал час точильщиков.