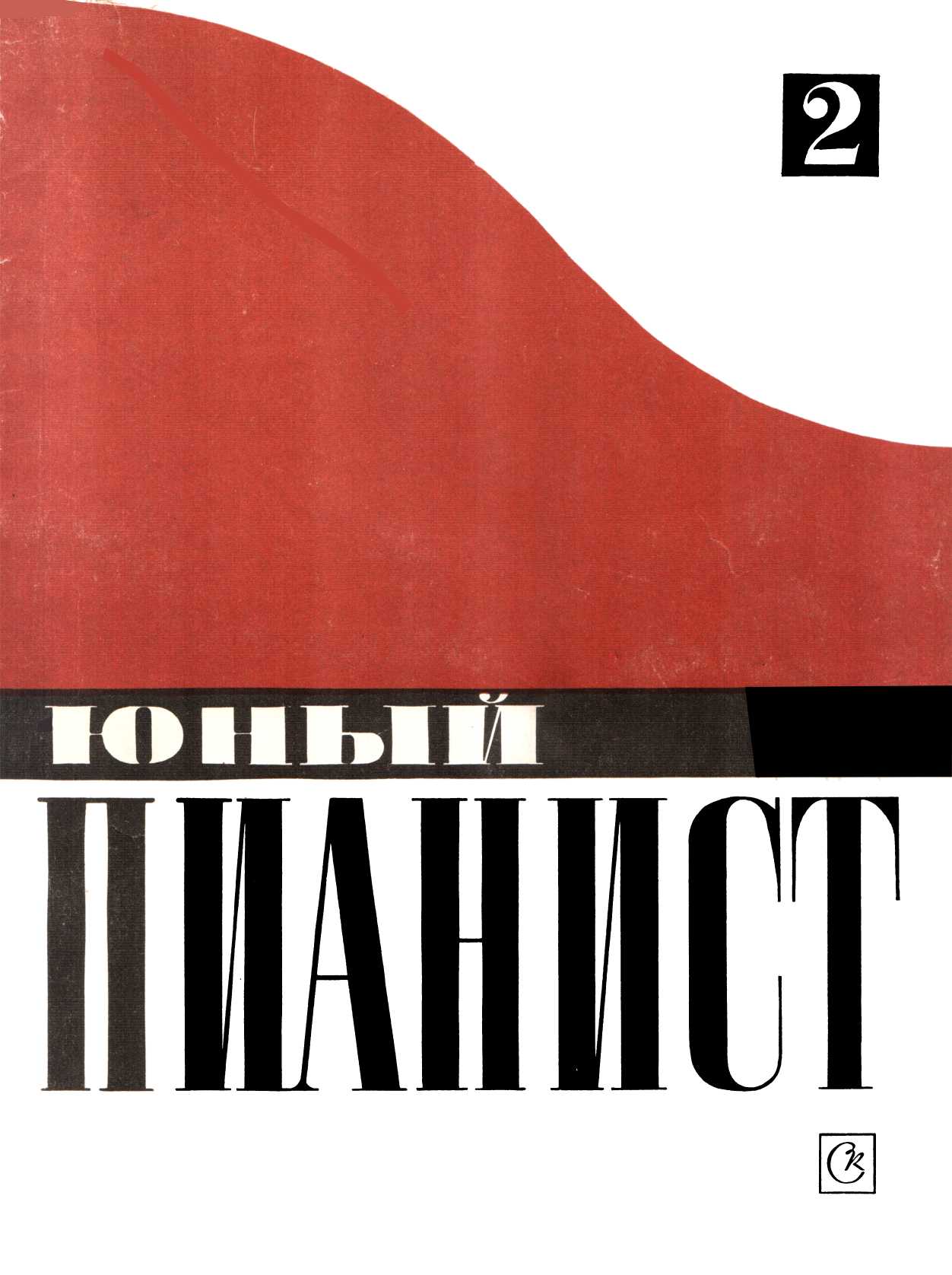Книга Записки еврея - Григорий Исаакович Богров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А развѣ это честно, папаша, взять чужія вещи и не возвратить? спросила та же дѣвочка.
— Молчи, не прерывай отца! прикрикнулъ на нее раби Исаакъ. — Моисей повелъ свой народъ, но Фараонъ съ громаднымъ войскомъ погнался за ними по пятамъ. Израильтяне приблизились къ морю. Ихъ положеніе было самое ужасное: съ тылу — свирѣпые враги, съ переди — грозное море. Но да будетъ благословенъ Іегова во вѣки вѣковъ! Онъ повелѣлъ, море разступилось и народъ его прошелъ какъ по сушѣ. Египтяне бросились вслѣдъ, но Іегова повелѣлъ опять, и грозное море покрыло египетскую армію своими волнами. Все погибло, и люди и лошади, и военныя колесницы, и самъ Фараонъ. Моисей сорокъ лѣтъ водилъ свой народъ по безпредѣльнымъ пустынямъ, и наконецъ привелъ его въ обѣтованную землю. Вотъ почему мы празднуемъ этотъ великій день! Мы ѣдимъ этотъ горькій хрѣнъ и лукъ, чтобы живѣе вспомнить горечь того времени; мы ѣдимъ этотъ херойшесъ (сѣроватая масса изъ орѣховыхъ ядръ, имѣющая видъ глины), чтобы вспомнить ту годину, когда наши праотцы, рабы египтянъ, собственными руками, мѣсили глину для египетскихъ построекъ; мы ѣдимъ эти опрѣсноки, чтобы вспомнить то время, когда израильтяне, бѣжавъ изъ неволи, въ попыхахъ, не успѣли запастись на дорогу печенымъ хлѣбомъ, и принуждены были питаться однѣми прѣсными лепешками.
Раби Исаакъ кончилъ свой историческій разсказъ, но всѣ, не исключая и меня, которому хорошо была извѣстна вся эта исторія, продолжали еще вслушиваться, ожидая продолженія. Дѣти навострили свои ушки; старая кухарка кивала головой, положивъ свой старческій указательный палецъ на морщинистый подбородокъ. Затѣмъ, хозяинъ дома приступилъ къ чтенію этой же исторіи на древне-еврейскомъ языкѣ. Когда и эта церемонія была кончена, мы опять глотнули изъ нашихъ стаканчиковъ, и затѣмъ приступили къ ужину. Выпитое вино, къ которому никто изъ насъ не былъ привыченъ, разлило на всѣхъ лицахъ румянецъ. Мы были веселы и довольны, ѣли съ большимъ аппетитомъ. Ужинъ былъ необыкновенно вкусенъ. Дѣти болтали. Раби Исаакъ шутилъ и подтрунивалъ надъ ними. Я тоже былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа, и безпрестанно заговаривалъ съ Ерухимомъ. но онъ, какъ и мать его, были печальны. Къ концу ужина, Перлъ вдругъ обратилась къ мужу:
— Исаакъ! Правда ли, что полученъ указъ о рекрутскомъ наборѣ, по десяти съ тысячи?
— Да, говорятъ.
— Не грозитъ ли намъ рекрутская очередь?
— Что за идея, милая Перлъ! очередь не можетъ еще такъ скоро приблизиться къ такимъ малочисленнымъ семействамъ, какъ наше.
— А если да, Исаакъ?
— Пустяки, говорю тебѣ. Я на дняхъ получилъ свой паспортъ изъ Р. Его выслалъ мнѣ общественный старшина. Еслибы намъ угрожало что нибудь, то онъ, навѣрное, предупредилъ бы меня.
— Но вѣдь когда нибудь да подойдетъ же очередь и къ намъ?
— До тѣхъ поръ, дастъ Богъ, мои обстоятельства поправятся. Или найму охотника, или запишусь въ купцы, и тогда мы будемъ свободны отъ рекрутской повинности.
— Для чего же ты откладываешь, Исаакъ? Почему ты не употребилъ всѣ средства, чтобы это сдѣлать до сихъ поръ?
— Другъ мой! развѣ ты не знаешь, какъ мы перебиваемся при настоящихъ плохихъ заработкахъ? Развѣ ты не знаешь, какъ мы задолжали?
— Я отдала бы тебѣ и мой жемчугъ, и мои серьги, и мою послѣднюю рубаху, питалась бы съ дѣтьми черствымъ хлѣбомъ, лишь бы быть спокойной.
— Твой жемчугъ, твои серьги! сказалъ съ ироніей раби Исаакъ: — далеко на нихъ уѣдѣшь! Нечего сказать!
— Почему же? вѣдь стоютъ же они что нибудь.
— Да, «что нибудь». Но на что нибудь ты ни охотника не наймешь, ни въ купцы не запишешься. Это удовольствіе пахнетъ не сотнями, а тысячами. Потерпимъ, мой другъ, Богъ милостивъ, вывернемся кое-какъ.
— Кабы вывернулись. Но вывернемся ли?
Раби Исаакъ замялъ этотъ грустный, непраздничный разговоръ, и обратился къ намъ.
— Ну, дѣтки, наполняйте стаканы, да налейте этотъ большой стаканъ до самыхъ краевъ дорогому нашему гостю, Ильѣ пророку.[38] А вы, дѣвочки, обратился онъ къ дочерямъ — отправляйтесь-ка спать. Ужинъ кончился, вамъ больше тутъ дѣлать нечего.
Дѣти встали, пожелали спокойной ночи и вышли.
Мать послѣдовала за ними чтобы ихъ уложить.
Кухарка прибирала со стола, и выносила посуду и остатки ужина въ кухню.
Я налилъ наши стаканчики и большой стаканъ Ильи пророка.
— Ерухимъ! отвори дверь въ сѣни[39], приказалъ отецъ сыну.
Ерухимъ приподнялся чтобы исполнить приказаніе отца. Изъ сѣней послышался какой-то шорохъ. Ерухимъ поблѣднѣлъ и не трогался съ мѣста.
— Эхъ! какой же ты трусишка, Ерухимъ! Илья пророкъ никому не вредитъ; влетаетъ неслышно и невидимо, благословляетъ гостепріимную семью, и улетаетъ безъ шуму дальше. Сруликъ! не храбрѣе ли ты Ерухима? добавилъ раби Исаакъ, обращаясь ко мнѣ.
Я самъ былъ не изъ храбраго десятка, но самолюбіе мое было задѣто. Я всталъ съ рѣшимостью доказать свою храбрость. Вторично что-то зашелестило въ сѣняхъ. Я остановился.
— Да не пугайся же. Это должно быть или кошка, или крыса.
Я побѣжалъ къ двери и осторожно, потихоньку, медленно принялся отворять ее…
— Излей, о Господи, твой гнѣвъ на племена, непознающія тебя… читалъ между тѣмъ раби Исаакъ.
Дверь оторилась. Я окаменѣлъ на мѣстѣ. Предо мною, въ дверяхъ, стояли какіе-то люди. На меня бросились; меня схватили. Я потерялъ всякую способность говорить, или кричать. Я дико озирался. Меня держали два здоровенныхъ еврея. Вслѣдъ за ними, вошелъ полицейскій чиновникъ въ сопровожденіи трехъ будочниковъ. Вся эта сцена разыгралась съ такой быстротою, что раби Исаакъ и Ерухимъ, онѣмѣвшіе отъ неожиданности, не произнесли ни одного звука.
Промежду будочниковъ протолкался какой-то, отвратительной наружности, маленькій сутуловатый еврей.
— Вы не того схватили, вы не того поймали, закричалъ онъ евреямъ, державшимъ меня. — Вонъ тотъ! Вонъ тотъ, настоящій! указалъ онъ на Ерухима. Въ одно мгновеніе ока, меня отпустили, а Ерухима схватили.
— Ловцы, ловцы![40] Караулъ… неистово закричалъ раби Исаакъ. Стаканъ съ внномъ, покоившійся на его широкой ладони, упалъ на полъ, и съ звономъ разбился въ дребезги.
— Разбойники! Кровопійцы! прочь! не то…
Полицейскій чиновникъ, флегматически, съ достоинствомъ опустилъ свою полицейскую лапу на плечо раби Исаака.
— Не бунтовать! приказалъ онъ рѣзко и отрывисто.
Раби Исаакъ опустилъ руки, постоялъ секунды двѣ, затѣмъ вновь поднялъ руки, и молча запустилъ ихъ въ свои густые пейсы, съ неописаннымъ, неизобразимымъ отчаяніемъ въ лицѣ.
Ерухимъ молчалъ, даже ни разу не пискнулъ, какъ придушенный цыпленокъ. Лицо его покрылось мертвенной блѣдностью, а глаза, застывшіе въ своихъ орбитахъ, не мигая, смотрѣли на одну точку, куда-то вдаль.
Не знаю какимъ образомъ, въ такую ужасную минуту,