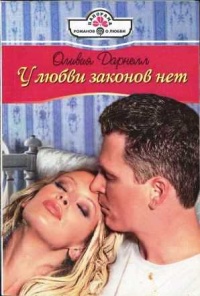Книга Искупление - Элеонора Гильм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Долго разглядывал народ, кто рогатую козлиную голову нацепил – по поверью, ждет его удача большая.
– Демьян козла изображает! Вот мужик озорной. – Параскева радуется, хлопает в ладоши.
Заяц бережно приобнял Марфу. На ее живот, различимый и в просторном платье, косятся бабы. Семен, окруженный мужиками и парнями, рассказывает какую-то шутку. Ухмыляется Яков, гогочет Игнат, ощеривает беззубый рот Макар. Семена ржаные, ячменные, овсяные упали в благодатную почву, можно на вечер забыть о хлопотах и окунуться в игру.
Русалка со своими подручными окунулась в Усолку, побрызгала на детвору, пошла вброд туда, где воды мелкой реки и ветви прибрежного ивняка сомкнулись сплошной полосой. Народ скоро разошелся по домам, мимоходом обсуждая игру ряженых и проводы весны, а особенно пузатую Марфу. А еще Аксинью, что нахально вышла с вымеском и не отводила немытых черных глаз от порядочных людей.
* * *
Запаренные с горстью зерна крапива, щавель, луковицы сараны, зеленый лук источали на всю избу густой травяной дух. Аксинья с Матвейкой исхаживали версты в поисках съедобных лесных даров. Бескормица чуть разжала свои цепкие пальцы, лето полезло в котелок зелеными травами.
– Она! Она! – Тошка перепрыгнул через забор, впопыхах забыл о калитке.
– Что случилось? – Спрашивая, Аксинья уже знала ответ.
– Бабская немочь… Как сказать?..
– Рожает?
– Да… Да. – Мальчишка мотал головой так, что она того и гляди могла оторваться. – Тебя зовет.
– Передай, иду я.
Прошедшая зима с весной были бедны на появление младенцев. Сама природа женская, что ль, знала: настали трудные времена, и новая жизнь, новый голодный рот станут испытанием для каждой семьи. Марфа первой на все окрестные деревни произведёт на свет каганьку, возвестит о том, что жизнь всегда торжествует над смертью.
Изба Марфы встретила ее запахами запаренной брюквы и детским плачем. Пятилетняя Нюрка, глядя на корчащуюся от потуг Марфу, вопила, заливалась слезами:
– Боюсь я… Ты не умирай, мамушка! – Она вцепилась в подол Марфы с такой силой, что Аксинья еле разжала пухлые пальцы.
– Ты не бойся, заюшка. Все хорошо будет. Георгий, уведи Нюру в мою избу. Там Матвейка, приглядит он. И Тошку туда отправь, не надо ему смотреть.
– Да… Да. – Заяц кивал с очумелым видом, кажется, не понимая ни слова.
– Георгий! Слышишь меня?
– Слышу.
– Сам сходи к Прасковье, к Катерине… Помощницы мне нужны.
– Умрет она? Умрет. – Заяц прошептал эти слова. Будто что-то решенное.
– Вы сдурели совсем? Одна орет, второй беду кличет…
– Ульянка…
– Опять. – Аксинья погладила по плечу Марфу, успокоила. – Нескоро еще, голубушка. Дыши так, будто сено гребешь. Медленно, размеренно. Приду сейчас, мужа твоего вразумлю…
Она затащила вялого Гошу в сени, крикнула прямо в ухо:
– Ты что про Ульянку трещишь?! Забудь!
– Сон недавно был… Она сказала, что мальчик мертвый родится. Мне в наказание.
– Нет Ульянки. Умерла она! Сгнила давно в земле.
– Она в мавку[11] обратилась. Мстит теперь мне. – Георгий затрясся в беззвучных рыданиях.
– Да чтоб тебя! Дурень. Ты про нее помнишь, потому и силу имеет. Забудь – исчезнет.
– Мертвый сын… Мертвый. – Заяц повторял страшные слова как заклятие.
– Очнись. – Со всей силой Аксинья ударила его по щеке. Правая. Левая. Опять правая. Голова мужика болталась из стороны в сторону. – Помощь мне твоя нужна.
– Что? – заморгал, повел русой головой.
– Прасковью с Катериной приведи. Сейчас.
– Ага.
Аксинья привалилась к стенке. Еще вечность до появления ребенка на свет, у старородящей-то матери, а ведунья устала. От глупости. От безвольности. От мужской трусости.
Кровь была повсюду. Темными каплями застыла на соломенном тюфяке. На полу. На Аксиньиных руках. На лице Прасковьи. Кровавый мир.
– О, Пресвятая Богородица, Мать наша милосердная! Яви на нас, в печали сущих и во грехах всегда пребывающих рабов твоих… – губы выговаривали благословенные слова, а вера таяла.
В полдень Аксинья пришла к Марфе, а сейчас близилось утро следующего дня, Воскресного Дня Всех Святых. Ребенок отказывался появляться на свет.
Заяц за прошедшее время измаял свою душу до самого дна. Уложив детишек в Аксиньиной избе – довольные, они заснули на печи в обнимку, – пришел домой, сел на чурбан возле крыльца. «Не уйду», – неразборчиво бурчал Георгий в темноту. Аксинья выходила на улицу, чтобы вдохнуть хмельного воздуха июньской ночи и успокоить Марфиного мужа. Порой Прасковья утешала Георгия, говорила ничего не значащие слова, должные смягчить тревогу. Но он не слушал их ласковых речей, замкнулся в своих страхах и воспоминаниях.
Утешение не приходило. Катерина ушла в полночь, беспокоясь о своем малом сыне. Она послушно выполняла все просьбы Аксиньи, но взгляд ее был сух, движения скупы. «Осуждает», – понимала Аксинья, но слова оправдания, слова о том, что не виновата она, «не было, крест тебе, не было ничего с Семеном», скрипели где-то внутри, но наружу не вылезали.
Как и дитя Марфы.
– Георгий!
Исхудавший, с лихорадочным блеском в глазах Георгий был не похож на себя обычного, вальяжного, веселого увальня.
– Что я скажу тебе, то делай. Не спрашивай меня. Делай.
Он вперил в нее красные, чумные глаза. Слышит иль нет?
– Мать-сыра земля, помоги ты любушке моей, забери ее боль в свое чрево, впитай кровь в траву, вытри пот ветром, напои дождем, огради от лиха. Повторяй…
– Мать-сыра земля… Не поможет, не поможет ей…
– Нет, повторяй… Мать-сыра земля, отдай мне сына моего, не бери его в дети свои, нужен он в мире нашем, забери его боль… – Полузабытые слова, что шептала много лет назад Гречанка над умирающей роженицей, будто огнем начертались в голове Аксиньи. – Вокруг избы ходи да говори. И не останавливайся, слышишь?!
Дюжину раз повторил измученный муж заклинания, прежде чем запомнил.
– И первые слова не позабудь, Георгий…
Теперь женщины слышали его монотонный голос, умолявший неведомые силы помочь. Слова заклятия, старого, как сама земля, оборачивались вокруг избы, и невнятное, жалкое бормотание Георгия Зайца навевало тягостную дрему на Аксинью и Параскеву. Можно ли надеяться, что Мать-сыра земля услышит и поможет…
Марфа не стонала, затихла, пышные косы ее залило потом, рот искривился в страдальческой гримасе. Аксинья забылась коротким сном, сидя у лавки.